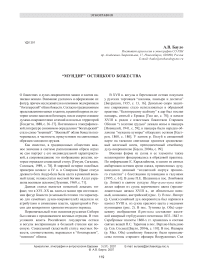"Мундир" остяцкого божества
Автор: Бауло А.В.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 3 (31), 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14522597
IDR: 14522597 | УДК: 391
Текст статьи "Мундир" остяцкого божества

Рис. 1. Кафтан XVIII в. – подношение Мир-сусне-хуму . Поселок Ломбовож.

Рис. 2. Камзол XVIII в. – “мундир” семейному духу-покровителю. Поселок Ямгорт.
СССР и офицерский парадный суконный ремень (Полевые материалы автора (далее – ПМА), 2005).
Практика использования военной формы описана и у ближайших соседей северных хантов – ненцев. В 1830-х гг. А. Шренк побывал в архангельской тундре на жертвенном месте самоедов, преданном сожжению православными миссионерами. Здесь он обнаружил солдатские медные пуговицы – остатки солдатского мундира, пожертвованного самоедами своим богам (цит. по: [Шмидт, 1932, с. 21]).
В начале XVIII в. предметы вооружения отмечены на сибирских святилищах [Бахрушин, 1935, с. 26; Новицкий, 1941, с. 80–81]. В дар духам-покровителям ханты и манси преподносили наконечники копий, бердыши [Шульц, 1924, с. 194; Бауло, 2004а, с. 100], бронзовый клевец [Источники…, 1987, с. 241], мечи, сабли, палаши, кинжалы, боевые топоры [Кастрен, 1860, с. 186; Финш, Брэм, 1882, с. 415, 436–437; Шульц, 1924, с. 193; Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 20–23; Источники…, 1987, с. 200, 205; Гемуев, 1990, с. 84–86; Грачева, 1990, с. 22–23; Гемуев, Бауло, 1999, с. 30–31; Успенская, 2002, с. 46; Федорова, 2002, с. 114; Бауло, 2004а, с. 103–109]. На панно 1840-х гг.
сибирским художником Н. Шаховым изображены два помоста с фигурами двух идолов северных остяков, вооруженных саблями [Чернецов, 1949, с. 15].
Воинская атрибутика божеств нашла свое отражение и в мифологии. У манси известен Кер хонгра хум “Человек с железными подколенками” [Источники…, 1987, с. 268]; одет в кольчугу и вооружен саблей Тахт-ко-тиль-ойка “Старик середины Сосьвы”; Пайпынг-ойка , по преданию, носил панцирь, сшитый из вываренной бересты; на медвежьем празднике “Семь богатырей с притока Лозьвы” выступали в кольчугах [Ромбандеева, 1993, с. 53, 61, 75]. В начале ХХ в. казымские ханты почитали духа-покровителя в образе железной женщины с саблей в руке [Лехтисало, 1998, с. 79]. В 1930-х гг. на медвежьем празднике в поселках Вежакары, Ильпи-па-уль и Сури-пауль (р. Обь) приходящие божества изображались с саблей. Дух-покровитель Самбиндаловых в пос. Яны-пауль, по легенде, имел такую тяжелую саблю, что ее могли поднять только три человека [Источники…, 1987, с. 200, 217, 229, 247].
Манси и ханты при отсутствии реальных предметов воинской амуниции и вооружения в обрядовой практике нередко их имитировали. Исследователи обращали внимание на деревянные изваяния духов с остроконечной головой, которые встречаются на святилищах обских угров. С точки зрения К. Карьялайнена, остроконечные головы духов-покровителей копировали шапки русских казаков [1995, с. 49]. В.Н. Чернецов рассматривал подобные головы идолов как попытку стилизованного изображения воинских шлемов [Чернецов, Мошинская, 1954, с. 183]. По мнению И.Н. Ге-муева, А.М. Сагалаева и А.И. Соловьева, жителям тайги были издавна знакомы боевые шлемы, поэтому их изображали в виде головных уборов деревянных изваяний [1989, с. 81, 88]. Манси не только придавали головам деревянных изваяний остроконечную форму, но и часто обматывали эти головы кусками белой ткани [Дмитриев-Садовников, 2000, с. 42; Народы…, 1986, с. 135–141; Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 33, 82]. Такая обмотка, по мнению И.Н. Гемуева и А.М. Сагалаева, символизировала воинский шлем [1986, с. 33]. В шлеме предстает личина богатыря-предка, вырубленная на стволе продолжающего расти дерева [Там же, с. 94].
В современной обрядовой практике обязательность показа духа-покровителя в шлеме приобретает разные формы. В пос. Зеленый Яр хранится изображение семейного божества, вырезанное из дерева; верхняя часть головы имеет форму шлема. У войкарских хантов на святилище Най ими “Огненной женщины” установлена фигура богатыря – Сына богини. Его голова покрыта большой жестяной крышкой от стеклянной банки; возможно, таким образом имитируется средневековый шлем с плоским верхом [Бауло, 2004а, с. 99]. Копируют металлические шлемы и с помощью суконных изделий. В доме П.Е. Шешкина в Ломбовоже был обнаружен суконный шлем с забралом и бармицей; покрой этого головного убора соответствует конструкции шлема-ерихонки [Гемуев, 1990, с. 91].
На святилище Ворсик-ойки (р. Манья) грудь деревянной фигуры духа-покровителя была закрыта куском металлической фольги, имитирующей кольчугу [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 18–19]. В домашнем святилище манси Хозумовых в пос. Ясунт хранилось изображение семейного духа-покровителя конца XVIII в. На переднюю сторону одного из халатов были положены три жестяные пластинки в виде пятиугольников, имитирующие, ескорее всего, детали панциря. Поверх тулова фигуры духа-покровителя из пос. Яны-пауль (р. Сев. Сосьва) был надет двусторонний “панцирь” из куска золотого позумента. В доме И. Сайнахова в пос. Щекурья в сундуке лежало лезвие косы, имитирующее саблю богатыря-предка. У войкарских хантов на святилище Най ими в священной нарте богини хранятся два миниатюрных кинжала, выструганных из дерева [Бауло, 2004а, с. 98–99, 104].
Имитация ритуального одеяния и снаряжения богатыря у обских угров неоднократно описана на примере жертвенных суконных атрибутов Мир-сус- не-хума - “седла”, пояса, шлема и колчана [Гемуев, Бауло, 2001].
В качестве примера обозначения богатырского характера божеств с помощью военной символики можно упомянуть бытующие в религиозно-обрядовом комплексе хантов и манси статуэтки кавалеристов XIX в. из папье-маше. Игрушки-всадники отмечены в составе культовой атрибутики манси (пос. Лом-бовож) [Гемуев, 1990, с. 74] и хантов (пос. Тутлейм, 5 экз.; Пашторы; Нимвожгорт, 2 экз.) [Бауло, 2004а, с. 111]. Все они почитались как изображение Мир-сус-не-хума / Мир-ваннты-хэ (рис. 3) . Вероятно, один из таких всадников описан у казымских хантов: в июле 1934 г. в окружной газете шла речь о том, что у ханта П.К. Молданова в святом ящике хранился маленький конь, на спине его верхом сидел маленький мужичок [Ерныхова, 2003, с. 84]. Бронзовая фигурка кавалериста XIX в. являлась семейным охранителем у манси Т.И. Номина [Гемуев, Бауло, 1999, с. 72]. Металлический всадник в военной форме был обнаружен на чердаке дома в пос. Суеват-пауль Свердловской обл. [Окно…, 2003, с. 81].
С конца XVII в. остяки и вогулы начинают больше зависеть от гражданской, нежели военной, государственной власти. В изображении божеств “инородцы” стараются копировать внешний вид собственных кня-

Рис. 3. Всадник из папье-маше - олицетворение Мир-сусне-хума . Поселок Пашторы.
зей и обращают внимание на вещи, которыми российские цари подчеркивали свое высокое положение.
В XVII–XVIII вв. население поселков, расположенных в нижнем течении Оби, входило в состав Обдорской, Куноватской и Ляпинской волостей Березовского уезда, во главе которого стояли князцы Тайшины, Артанзеевы и Шешкины. В апреле 1679 г. князец Гында Моликов получил от государя кафтан с серебряными завязками, шапку соболью и сапоги. В 1704 г. Ляпинский князец Шеша Кушкиреев был пожалован однорядкой красной, собольей шапкой и сапогами. В январе 1768 г. Обдорскому князю Матвею Тайшину вместе с жалованной грамотой на владение землями прислали из столицы кортик с изображением на рукоятке орлиной головы, парадную одежду (кафтан, камзол, шапку) и “красные золотом шитые сафьянные сапоги”. Последнему обдорскому князю И.М. Тайшину Николай I пожаловал серебряный кортик с портупеей [Перевалова, 2004, с. 55, 59, 86].
Со временем некоторые из знаков власти оказались в составе культовой атрибутики. Так, на чердаках двух домов пос. Ямгорт, в которых проживают потомки князей Артанзеевых, хранились два комплекта шпаг и палашей второй половины XVIII в. На лезвии одного палаша выгравированы княжеская корона и вензель. На лезвии шпаги с двух сторон имеются надписи: “Виватъ Анна Великая” и “Богъ и отечество” [Бауло, 2004а, с. 108].
Соответствующая символика и атрибутика постепенно стали необходимым элементом в изображении обско-угорских божеств. В середине XIX в. Ю. Куше-левский описал у остяков в Эндерских юртах идола, одетого в старый заседательский мундир и при шпаге [1868, с. 113]. Впрочем, не только мундиры, но даже металлические пуговицы с них, по мнению О.А. Му-рашко и Н.А. Кренке, рассматривались в XIX в. остяками как элементы одежды высокого статуса, поэтому отношение к ним было особое. В 1909 г. проводник О.О. Баклунда, глядя на сотрудников экспедиции, одетых в костюмы цвета хаки, усомнился в том, что они “большие чиновники, приехали из Петербурга”, т.к. на них не было блестящих металлических пуговиц. И.Н. Шухов, посетивший р. Щучью в 1913 г., писал: “…остяки меня рассматривали, показывали на пуговицы” [Мурашко, Кренке, 2001, с. 52]. Как курьезный факт можно упомянуть присутствие в святых сундуках хантов пуговиц офицеров подводного флота Германии времен Второй мировой войны. Они были поднесены духам-покровителям (ПМА, 2000, 2001, 2005).
Шпага гражданского чиновника образца 1855 г. хранилась у хантов в пос. Шурышкары (р. Мал. Обь) (ПМА, 2003); жандармская сабля до сих пор обозначает одного из идолов тегинских хантов [Бауло, 2002, с. 36–37].
Божествам подносили и кожаные сапоги, в основном ремесленные образцы детской обуви, пошитой на рубеже XIX–ХХ вв. Подобные случаи отмечены у манси в Цыгарских юртах, на святилище Хонт-Торума [Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 74], в поселках Хурумпауль (р. Ляпин) [Гемуев, 1990, с. 42, 51, 76], Кимкъясуи (р. Сев. Сосьва) [Гемуев, Бауло, 1999, с. 156], у хантов Казыма [Легенды Казыма…, 2005, с. 40], в поселках Тугияны, Ванзеват (2 пары) [Бауло, 2002, с. 41–42], Зеленый Яр (р. Полуй) [Бауло, 2005, с. 351] (рис. 4), Анжигорт (р. Мал. Обь) (ПМА, 2005), Овагорт (р. Мал. Обь) (ПМА, 2006).
На одном из жертвенных покрывал, хранящихся в пос. Ломбовож, все четыре фигуры Мир-сусне-хума запечатлены в нашитых миниатюрных суконных сапожках (ПМА, 2006) (рис. 5). В одном из сказаний повествуется о том, как вогул послал в Троицкие юрты в жертву Мир-сусне-хуму старые голенища своих сапог [Kannisto, 1958, s. 262].
Фуражки, которые дарили божествам ханты и манси чаще всего относятся к служебным головным уборам с козырьком и эмблемой. Только в последние годы фуражки и их имитации были зафиксированы в домашних святилищах: у манси в поселках Ломбовож, Хурумпауль, Ясунт (по 2 экз.) ([Гемуев, 1990, с. 50–51, 72]; ПМА, 1999, 2006), у хантов р. Полуй (3 экз.) [Ба-уло, 2005, с. 350] (рис. 6). В данном случае головной убор также подчеркивал “властный” статус божества.
Дважды – у хантов Молдановых в пос. Ванзеват [Бауло, 2002, с. 42] и у Артанзеевых в пос. Ямгорт (ПМА, 2005) – в святых сундуках встречены старые очки, которые, скорее всего, были призваны подчеркнуть “чиновничий” образ божества.
Спросом в обрядовой практике пользовались элементы государственной символики. Основой фигуры семейного духа-покровителя в пос. Мувгорт (р. Сыня) являлся жестяной герб Российской империи конца XIX в. Такой же герб пришит в верхней части фигуры божества сынских хантов Хоран-ур-ики [Сынские ханты, 2005, с. 169].
Божествам делали подношения и в виде различных знаков. В пос. Верхне-Нильдино в святом сундуке хранился медный жетон деревенского старосты XIX в. (ПМА, 1985); семейному божеству на святилище на р. Полуй были подарены значки “Ворошиловский стрелок” и “Отличнику охотничьего промысла” (ПМА, 2002). На одну из рубашек иттермы (временное вместилище души умершего) в пос. Хурумпауль была приколота медаль “Материнская слава” (ПМА, 2005).
“Чиновничьи” функции божеств упоминаются и в мифологии манси и хантов. Духи-покровители вогулов, как и лесные духи менквы , платят небесному богу налоги мехами; сборщиками налогов являются определенные духи-покровители, в их числе – Чох-рынь-ойка [Kannisto, 1958, s. 142–143; Источники…, 1987, с. 37]. В одном из мифов описан суд духов-покровителей над лесным духом, укравшим у вогула

Рис. 4. Сапоги – подношение семейному духу-покровителю. Поселок Зеленый Яр.

Рис. 5. Жертвенное покрывало с изображением Мир-сусне-хума в сапогах. Поселок Ломбовож.
собаку; суд поручил вынесение приговора Чохрынь-ойке; лесного духа приговорили к наказанию розгами и заточению в темницу, кроме того, он должен был вернуть вогулу украденное имущество и вдобавок поднести подарок. Высшей инстанцией в этом случае был Пелымский бог – “княжеский судья, взимавший подати” [Kannisto, 1958, s. 144]. Старшиной у лесных духов, когда они собираются для взимания налогов, является Тулям-ур-ойка, проживающий недалеко от Няксимволя [Ibid, s. 148]. Богиня Калтась после рождения ребенка срок его будущей жиз- ни записывает в специальную книгу [Ibid, s. 121]. Согласно сказаниям кондинских манси, Йивэр-най “богиня Евра” наде- вала очки, чтобы проверять работу птиц-посланцев: она видела в очках за 40 верст, а без очков – как обычный человек [Ibid, 185].
Скорее всего, к чиновничьим (по крайней мере, по форме) можно отнести ритуальные штаны, преподнесенные Мир-сусне-хуму [Бауло, 2004б, с. 95]
Примеры использования церковной одежды в обрядовой практике остяков и вогулов единичны; это вполне естественно, ведь она противопоставлялась собственным религиозным атрибутам “инородцев”. Интересен случай, происшедший в 1723 г. Священник

Рис. 6. Фуражки – подношения семейным божествам. а – пос. Ясунт; б – пос. Зеленый Яр.
Белогорской Троицкой церкви Дорофей Скосырев назвал остяцкого шайтана “своим братом большим того ради, что он, поп, брал всякое приношение с ним, шайтаном, пополам. <...> А братался он с ним, шайтаном, рясою своею черною, конфовою, которая ряса обретается на нем, шайтане, и по днесь…” [Очерки…, 2000, с. 232]. В середине XIX в. русские промышленники заказывали делать для идолов серебряные короны, вроде епископских митр, и в Обдорске тайно продавали их крещеным инородцам [Кушелевский, 1868, с. 113]. Фрагмент куска парчи с вышитой церковной символи- кой – крестами – хранился в домашнем святилище в пос. Тильтим (р. Сыня) (ПМА, 2003).
Полагаю, что приведенный материал подтверждает выраженный социальный (властный) статус божеств и духов-покровителей, который в XVII– XX вв. демонстрировался манси и хантами с помощью военной, гражданской (реже церковной) формы и символики. Представляется, что большой смысловой разницы между военным и чиновничьим мундирами в обрядовой практике, скорее всего, не было.