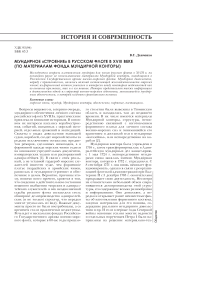Мундирное «Строение» в русском флоте в ХVIII веке (по материалам фонда мундирной конторы)
Автор: Данченко Владимир Георгиевич
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: История и современность
Статья в выпуске: 3 (32), 2014 года.
Бесплатный доступ
Исследуются вопросы изготовления мундиров для чинов русского флота в XVIII в. на основании ранее не использованных материалов Мундирной конторы, находящихся в Российском Государственном архиве военно-морского флота. Мундирное довольствие, наряду с провиантским, являлось важной составляющей жизнедеятельности морских чинов: их форменный костюм уникален и интересен ввиду некоторых особенностей как во внешних признаках, так и в его пошиве. Интерес представляет также информация о деятельности одной из структур военно-морского ведомства, занимавшейся мундирным обеспечением, о котором известно сравнительно немного.
Морские чины, мундир, мундирная контора, обеспечение, портные, поставщики
Короткий адрес: https://sciup.org/14031791
IDR: 14031791 | УДК: 93(94)
Текст научной статьи Мундирное «Строение» в русском флоте в ХVIII веке (по материалам фонда мундирной конторы)
Вопросы вещевого и, в первую очередь, мундирного обеспечения личного состава российского флота XVIII в. практически не привлекали внимание историков. В основном их интересы касались кораблестроения, событий, связанных с морской историей, отдельных сражений и экспедиций. Сюжеты о видах довольствия экипажей судов, кораблей, солдат морской пехоты за редким исключением оставались предметом ремарок, сделанных мимоходом, а о форменной одежде морских чинов судили на основании учредительных документов, императорских указов или распоряжений адмиралтейцев [1]. В связи с этим реальный, а не уставной гардероб морских служителей известен хуже, чем форменное платье гвардейских и армейских чинов, равно как и «мундирное строение» и обеспечение в целом. Вероятно, причины этому, помимо всего прочего, кроются в том, что сведения о действительном состоянии вещевого снабжения «морских и адмиралтейских служителей» в век неоднозначной судьбы русского флота составляли столь обширное делопроизводство адмиралтейских (и не только) структур, что нередко многое упускалось из виду. Важные документы просто не были востребованы, а со временем стали практически недоступны. Речь идет о нескольких фондах Российского Государственного архива военно-морского флота, которые в 60-ые годы прошло- го столетия были вывезены в Тюменскую область и находились там до недавнего времени. В их числе имеются материалы Мундирной конторы, структуры, непосредственно связанной с изготовлением форменного платья для личного состава военно-морских сил и занимавшейся его хранением и доставкой или в мундирные «магазейны», или непосредственно на корабли [2].
Мундирная контора была учреждена в 1716 г., затем трансформировалась в Адмиралтейскую мундирных дел канцелярию, с 1 мая 1724 г. непосредственно мундирами снова занялась именно Мундирная контора, которую в 1732 г. упразднили. С 8 сентября 1751 г. она вновь начинает функционировать, однако в связи с реорганизацией флотской администрации при Екатерине II с 3 декабря 1763 г. окончательно прекращает свою деятельность. Несмотря на относительно небольшой объем сохранившегося делопроизводства этой структуры, его содержание весьма разнообразно и информативно. Оно дополняет, а нередко и открывает ранее неизвестные факты об изготовлении форменного костюма, закупки материалов для его пошива, содержание реального мундирного довольствия и пр. И если в первые годы Северной войны основные усилия многих ведомств и отдельных порученцев Петра I были направлены на решение материально-тех-
Общество
нических задач, связанных с флотом, то со временем вещевое обеспечение морских чинов стало предметом постоянной заботы адмиралтейской администрации, что и отразилось в сохранившихся конторских бумагах, большинство из которых впервые вводятся в научный оборот. Более того, эти материалы показывают «анатомию» мундирного «строения» и хранения, на что, применительно к флоту, никто из историков внимания не обращал и что в конечном итоге является самым главным в определении форменной одежды на конкретный период.
Хронологически они делятся на три части: петровское время, середина столетия и начало царствования Екатерины II.
Первая часть охватывает период с 1716 г до начала 1720-х гг. Здесь представлен весь спектр формирования гардероба морских служителей, его хранения, прейскурант материалов, в первую очередь сукон и полотен, которые использовались при его создании, сведения об их закупках, практика мундирного снабжения в военное время.
Штат Конторы, первоначально находившейся в Москве, состоял из офицера, призванного контролировать ведение «исправного» делопроизводства и одновременно оперативно решать едва ли не все вопросы, связанные с форменным платьем, а также помогавших ему подьячих, числом не более 8 человек. В помощь им определялись комиссары морского ведомства из офицеров или унтер-офицеров, которые нередко выходили на первый план при заключении подрядных сделок и собственно закупке мундирных «припасов».
Первое, что вменялось в обязанности перечисленным должностным лицам – это прием сукна, отвечающего всем необходимым кондициям. Дело в том, что морская одежда, постоянно испытывавшая влия-
Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2014
ние влажного воздуха и имевшая нередко непосредственно соприкосновение с водой, должна была обладать определенными качествами, которые в условиях войны и становления интендантских служб трудно соблюдать. Сукна для пошива морского мундира следовало отбирать плотные, хорошо уваленные, остриженные и промытые, без всякой апертуры, то есть добавлений крахмала, глюкозы и пр.
В Контору, как правило, загодя присылались образцы сукон, в соответствии с которыми и должна была происходить приемка материала, идущего или на хранение, или непосредственно на пошив [3, л. 1]. В условиях войны, недостатка средств, недобросовестности подрядчиков нередко привозились сукна, далекие от того, что требовалось. Однако даже в такой обстановке определенный порядок в этом вопросе пытались соблюдать. В частности, предписывалось придерживаться определенных цветов и требуемых размеров. Надлежало следить за тем, чтобы куски сукна имели запрашиваемые параметры и были должным образом выкроены для шитья кафтанов для матросов и морских солдат [3, л. 4]. В этом отношении показательна деятельность капитана Шестакова, который активно участвует во всем, что касается «мундирного строения». В частности, он контролирует приемку сукна английского купца Гилда Эванса, который подрядился доставить к пошиву матросской формы все необходимое, включая роговые камзольные пуговицы, а также пуговицы оловянные для кафтанов или бостроков, традиционных матросских курток голландского образца, которые носились на многих европейских флотах [3, л. 114]. «Аглицкие» сукна традиционно шли на пошив морской форменной одежды, причем как для матросов, так и для офицеров.
Матросские мундирные сукна были различных цветов, что дает основание говорить о весьма относительной цветовой регламентации морской униформы при дефиците финансов и красителей. Более того, иногда переизбыток сукна одного цвета, присланного за неимением другого, приводил к тому, что использовались те материалы, что были в наличии, и тем самым нарушались все уставные предписания. Инспекция капитана Шестакова, например, в «магазейны» вахтера У. Усачева показала наличие «аглицких» сукон красных, синих, васильковых, коричневых и черных, принятых по определенным номерам и размерам [3, л. 105]. Номер означал параметры кусков сукна, байки, полотна и каразеи в аршинах, вершках и четвертях, а размеры – готовых мундирных предметов, а также и кусков: они подразделялись на величины большой руки, средней и малой.
Время от времени от вахтеров, находившихся «у мундирного хранения», поступали сведения о нехватке или вообще отсутствии нужных для пошива сукон, что порождало неразбериху и в пошиве, и, главное, отправки их на корабли. В таких случаях в авральном порядке проверялись все мундирные «магазейны» в поисках излишков сукна или готового платья, которые, в случае удачных поисков, от- правлялись по назначению, в экипажи и батальоны.
Участвуя в приемке сукон, Шестаков, в помощь которому определялись иногда и купцы, следил за тем, чтобы они соответствовали указанному в ведомости номеру. Более того, параметры кусков сукна фиксировались как до «мочки», то есть проверки сукна водой, так и после нее – этот показатель удостоверял его качество.
После всех проверок, в которых участвовали и командированные в Контору унтер-офицеры, сукно и другие материалы шли портным. Это могли быть иностранцы, находившиеся при швальнях в портах, в частности Кронштадте, Ревеле или Риге; в помощь им определяли солдат или матросов, которые на практике постигали нехитрое искусство пошива кафтана или камзола. Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах действовали швальные дворы, которые обеспечивали, как правило, крупные заказы.
Номенклатура материалов с номерами и размерами заносилась в специальную ведомость и только после этого передавалась портным. Например, на пошив форменной одежды для гребцов царя Петра I в 1719 г. имелось: зеленого сукна – 68 аршин, «галанского» полотна – 156 аршин, трипу красного – 120 аршин с четвертью, бархата черного – 10 аршин 9 вершков, макаровского полотна – 312 аршин, кисеи – 107 аршин [3, л. 99 об.].
Делопроизводство любого ведомства показывает не только внешнюю сторону его деятельности, но нередко и то, что не выходит на первый план; в этом смысле документация Мундирной конторы не является исключением. Вполне видимые, заметные усилия ее сотрудников предстают в содержании «Книг записных», где подробно, с приведением многих фактов разной значимости расписаны статьи, связанные с пошивом флотского гардероба.
Так, например, здесь даются довольно полные сведения об отдельных операциях по изготовлению как мундирного платья в целом, так и отдельных его деталей. В этом документе даны размеры выкроек кафтанов и бостроков, обшлагов и воротников, представлены ведомости по материалам, идущим на их пошив, их количество и сорта [3, л. 243–244]. Кроме того, здесь имеется обширная информация о готовом платье, отправляемом на корабли и в расположение частей морской пехоты, а также и собственно сукна и парусины, которые там же и кроились [3, л. 247–260].
Информация несколько иного характера содержится в Книге расходной, которая фиксирует результаты закупок у купцов и действий подрядчиков: из этих цифр складывается картина поэтапного приобретения сукна, его проверки, отбора и описания [3, л. 269–271].
Закупка сукна производилась офицером Мундирной конторы, комиссарами морского ведомства, представителями купечества, которые приглашались магистратами. Все это сообщество обсуждало возможные поставки сукна, как внутри страны, так и из заграницы. С учетом того, что имена возможных поставщиков были в целом известны, разговор шел в основном о цене и подрядах, поскольку наиболее важным было «поставить» сукна или готовое платье в срок и в необходимом количестве.
В комплект флотского гардероба при Петре I помимо бостроков и кафтанов входили башмаки немецкого и английского образцов, остроносые и тупоносые. Часть из них закупалась в Европе, по крайней мере, на первых порах, а другая часть изготовлялась в России. В этой связи показательна инструкция, данная в Мундирной канцелярии сержанту А. Нармоцкому, в ведении которого находились 380 разных кож и чеботарных, то есть сапожных, припасов, в частности на набойки, подошвы, каблуки. Здесь также не обошлось без известного нам капитана Шестакова, который, согласно указам Петра I, составил для Нармоцкого своеобразное руководство к действию относительно изготовления башмаков. Собственно, это и было прописано в первом пункте, где говорится также, что сержанту придется «... принимать кожи и ... записывать в приход» [3, л. 383]. Во втором пункте речь идет о том, что сведения о принимаемых башмачных «припасах» необходимо еженедельно отсылать в мундирное ведомство [3, л. 383]. Кроме того, Нармоцкому вменялось в обязанности контролировать дисциплину чеботарей, чтобы они в «... пьянстве не пребывали и инструментов не утрачивали» – обо всех происшествиях следовало немедленно сообщать Шестакову.
Обязанности Нармоцкого выходили за рамки только сапожного дела – под его контролем находились также и мундирные припасы и инструменты, которые не должны были соответственно «... погнить от дождя и поржаветь» [3, л. 383 об]. Наконец, упомянутый сержант не должен был отпускать мастеровых людей без особого на то указа; кроме того, он отвечал
Общество
Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2014
за исправное «строение» мундира и обеспечение его всем необходимым [3, л. 383 об.–384].
Доставка на корабли сукна, тика, парусины или уже пошитой форменной одежды осуществлялась разными путями, в зависимости от обстоятельств. В случае острой необходимости формальности соблюдались минимальные (шла война), однако и здесь не обходилось без представителей Мундирной канцелярии, комиссаров и вахтеров, которые собственно и находились у «хранения» мундирных припасов или бостроков и кафтанов в своих «магазейнах». Сведения по количеству и номенклатуре вещей составлялись в Экипажной конторе, оттуда поступали в мундирное ведомство и комиссарам, которые в сопровождении специальной команды отвозили материалы или форменное платье на корабли и в порты. Как правило, все это паковалось в тюки с адмиралтейской печатью, указанием содержимого, а иногда и названия корабля, куда данные вещи направлялись [4, л. 8–63].
Для вахтеров процедура отправки всегда была сопряжена с хлопотами, к которым примешивался и страх, поскольку учетная документация велась, мягко говоря, неаккуратно и могли вскрыться самые разные упущения, граничившие с воровством. Правда, в случае если кафтаны или бост-роки оказывались не тех размеров, то наказывался не только вахтер, но и подрядчик, отвечавший за поставку [5, л. 171–171 об]. Время от времени приходилось проводить и некоторые манипуляции. Так, в 1722 г. из Москвы в Санкт-Петербург были присланы кафтаны и бостроки, которые были заметно короче образцовых. Тогда было принято решение изменить размеры, посчитав одежду «большой руки» за «среднюю», а ее как «меньшую» [5, л. 171].
Материалы Мундирной конторы дают ценные сведения о разнообразии морской одежды, которая, как уже отмечалось, регламентировалась в петровскую эпоху весьма относительно. Цветовое разнообразие кафтанов и бостроков впечатляет: они могли быть черными, красными, васильковыми, зелеными, синими, серыми, суконными, канефасными (сделанными из парусины), еренковыми, каразейными, фризовыми, тиковыми, байковыми: матросы носили солдатские кафтаны, а солдаты бостроки – в дальнейшем в цветах и видах одежды присутствует большее единообразие, хотя и оно в отличии от облика сухопутных частей выглядело весьма относительно.
Отчасти свидетельством этому являются данные Мундирной конторы за период правления Елизаветы Петровны, весьма ценные, поскольку этот период с точки зрения заданной темы исследован довольно слабо. Хотя формально в мундирной сфере на флоте делались вполне конкретные шаги. Например, было учреждено форменное платье для учащихся основанного в это время Морского шля-хетного корпуса, в 1745 и 1748 гг. произошли изменения в гардеробе морских чинов. Офицерам надлежало носить белый кафтан с зеленым отложным воротником и зелеными обшлагами и такого цвета камзол. Форменная одежда флотских унтеров дополнилась определявшими их звания позументами на обшлагах и кафтанах, матросам же определили мундирное довольствие в виде канефасных бостроков с сермяжной подкладкой и зелеными воротником и обшлагами, а также зеленый кафтан. Гардероб дополняли шляпы или шапки с разноцветными околышами по дивизиям, чулки и, естественно, башмаки. Все это поставлялось на корабли и суда при активном участии все той же Мундирной конторы.
В основном сфера ее деятельности мало чем отличалась от того, чем она занималась еще в ходе Северной войны, хотя, безусловно, интенсивность ее усилий несколько снизилась. Сохранившиеся документы за этот период отличаются своим стилем – стали вестись протоколы, в которых с разной степенью подробностей освещается рутинная работа офицера и подьячих Мундирной конторы. События фиксируются по дням, но не подчинены одной рубрике. Например, протоколы за 1752–1754 гг. представляют весь спектр изготовления мундиров и снабжение ими личного состава. В документах 1752 г. на первый план выходит поручик Беликов, который взял на себя основные функции распорядителя «мундирных» работ едва ли не в полном объеме [6, л. 1–82]. Трудно даже сказать, на что более всего обращал внимание этот офицер. В июне, например, он отправляет на корабли тиковые бост-роки, а уже в июле руководит возведением для портных 6 светлиц на морском полковом дворе, начисляет жалованье портным за пошив канонирам мундира с черными петлями, расследует дело о пропажи у портного из солдат Беляевского недошитого бострока, составляет ведомости наличия сукна, каразеи, гаруса.
Протоколы 1753 г. представляют нам более концентрированную картину из жизни флотских швален [7, л. 1–273]. Быт портных здесь предстает с исчерпывающей полнотой. Отметим, что речь идет скорее не о мастерах, а о подмастерьях и учениках в основном из солдат и матросов, чем объясняются многие происшествия, к коим, в первую очередь, можно отнести побеги, воровство, пьянство. К примеру, для гренадера Петра Пестова, работавшего в швальне, не существовало никаких преград, и он отлучился на неопределенное время [7, л. 131]. Также поступили солдаты Степан Степанов и Трифон Леговской, который еще и умудрился продать свой кафтан одному из часовых у Чернышева кабака [7, л. 51, л. 105–119]. Как правило, за подобные проступки наказывали шпицрутенами или заключали под стражу на разные сроки.
Несколько другая тематика присутствует в Протоколах 1754 г. Здесь речь идет непосредственно об изготовлении мундирного платья и его хранении, а также проверке сукна контролерами адмиралтейского ведомства. Как явствует из содержания протокольных статей, большое внимание уделялось обеспечению производственного процесса: сохранились запросы на закупки ниток, игл, ножниц, и, традиционно, материалов для пошива [8, л. 5–21]. Актуален был также и кадровый вопрос: не хватало даже тех, кто имел бы элементарные навыки в портновском деле. Мобилизация к «мундирному строению» солдат и матросов в целом себя не оправдывала, но другого выхода просто не предвиделось. Ученики и подмастерья по большей части в швальнях не задерживались – их обучение шло туго, а к своему делу они относились без особого желания. Под видом болезней некоторые вообще не по-
Список литературы Мундирное «Строение» в русском флоте в ХVIII веке (по материалам фонда мундирной конторы)
- Доценко В.Д., Гетманец Г.М. Русский морской мундир 1696-1917. СПб., 2008. -C. 428
- Российский Государственный архив военно-морского флота (РГАВМФ). -Ф. 187, оп. 1. Мундирная контора.
- РГАВМФ. -Ф. 187, оп. 1, д. 1.
- РГАВМФ. -Ф. 187, оп. 1, д. 3.
- РГАВМФ. -Ф. 187, оп. 1, д. 12.
- РГАВМФ. -Ф. 187, оп. 1, д. 23.
- РГАВМФ. -Ф. 187, оп. 1, д. 24.
- РГАВМФ. -Ф. 187, оп. 1, д. 27.
- РГАВМФ. -Ф. 187, оп. 1, д. 31.
- РГАВМФ. -Ф. 187, оп. 1, д. 34.