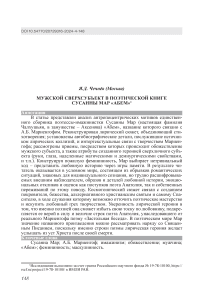Мужской сверхсубъект в поэтической книге Сусанны Мар "Абем"
Автор: Чечнв Я.Д.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
АВ статье представлен анализ антропоцентрических мотивов единственного сборника поэтессы-имажинистки Сусанны Мар (настоящая фамилия Чалхушьян, в замужестве - Аксенова) «Абем» , название которого связано с А. Б. Мариенгофом. Реконструирован лирический сюжет, объединяющий стихотворения; установлены автобиографические детали, послужившие источником лирических коллизий, и интертекстуальные связи с творчеством Мариенгофа; рассмотрены приемы, посредством которых происходит обожествление мужского субъекта, а также атрибуты созданного героиней сверхличного субъекта (руки, глаза, наделенные магическими и демиургическими свойствами, и т. п.). Конструируя пожилую фемининность, Мар выбирает нетривиальный ход - представить любовную историю через игры памяти. В результате читатель оказывается в условном мире, состоящем из обрывков романтических ситуаций, знаковых для индивидуального сознания, но трудно расшифровываемых внешним наблюдателем, образов и деталей любовной истории, эмоциональных откликов и оценок как поступков поэта Анатолия, так и собственных переживаний по этому поводу. Космогонический сюжет связан с созданием покровителя, божества, альтернативного христианским святым и самому Спасителю, в ходе служения которому возможно отточить поэтическое мастерство и искупить любовный грех творчеством. Уверенность лирической героини в том, что именно поэзией она сможет избыть свою тоску по любовнику, подкрепляется ее верой в силу и величие строк поэта Анатолия, унаследовавшего от реального Мариенгофа поэму «Застольная беседа». В поэтическом мире Мар значение названного произведения можно рассматривать наряду со Священным Писанием, поскольку именно строки поэмы лирическая героиня желает услышать из уст Христа после своей смерти.
Сусанна мар, а. б. мариенгоф, имажинизм, обожествление, мужчина, «абем», фемининность, маскулинность
Короткий адрес: https://sciup.org/149147184
IDR: 149147184 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-148
Текст научной статьи Мужской сверхсубъект в поэтической книге Сусанны Мар "Абем"
The article presents an analysis of the anthropocentric motifs of the only collection of the poetess-imagist Susanna Mar (real name Chalkhushyan, married – Aksenova) “Abem”, the name of which is associated with A.B. Marienhoff. The lyrical plot combining the poems is reconstructed; autobiographical details that served as a source of lyrical collisions and intertextual links with Marienhoff’s work are established; the techniques by which the deification of the male subject takes place, as well as the attributes of the superpersonal subject created by the heroine (hands, eyes endowed with magical and demiurgic properties, etc.) are considered. Constructing an elderly femininity, Mar chooses a non-trivial course – to present a love story through memory games. As a result, the reader finds himself in a conditional world consisting of fragments of romantic situations, iconic for individual consciousness, but difficult to decipher by an external observer, images and details of a love story, emotional responses and assessments of both the actions of the poet Anatoly and his own experiences about this. The cosmogonic plot is connected with the creation of a patron, a deity, an alternative to the Christian saints and the Savior himself, in the course of whose service it is possible to hone poetic skills and atone for the sin of love with creativity. The lyrical heroine’s confidence that it is through poetry that she will be able to overcome her longing for her lover is reinforced by her faith in the power and greatness of the lines of the poet Anatoly, who inherited the poem “Table Conversation” from the real Marienhoff. In the poetic world of Mar, this meaning of the named work can be considered along with the Holy Scriptures, since it is the lines of the poem that the lyrical heroine wants to hear from the mouth of Christ after her death.
ey words
Susanna Mar; A.B. Marienhoff; imagism; deification; man; “Abem”; femininity; masculinity.
Сусанна Мар известна исследователям футуризма как участница авангардной литературной группы «Ничевоки» (август 1919 – 1923) [Никитаев 1992, 59], впоследствии примкнувшая к имажинистам (В.Г. Шершеневич, А.Б. Мариенгоф, С.А. Есенин, А.Б. Кусиков, Рюрик Ивнев, М.Д. Ройзман и др.). Однако, как показывают современные исследования, есть вероятность контактов юной Мар с младшими символистами, в частности, Вяч. Ивановым. В недавней публикации высказывается гипотеза о том, что подпись под переводом литовской песни «Солнышко-Светлана» посвящена героине настоящей работы: «Перевел и на память для милой Сусанночки списал Вячеслав Иванов. Красная Поляна. 30 августа 1916» [Александрова 2022, 325]. Предположение нуждается в подтверждении. Факт того, что отец будущей поэтессы Григор Хачатурович (Гpигорий Хpистофорович) Чалхушьян, юрист, гласный Нахичеванской Думы, писатель и журналист, регулярно публиковался в журнале «Армянский вестник», в котором выступил со своим переводом поэмы О. Туманяна и Вяч. Иванов [Александрова 2022, 325], явно недостаточен для подтверждения правильной атрибуции адресата записи поэта. Связано ли посвящение Иванова 15-16-летней девушке, с последующими переводами литовских поэтов, которыми Мар занялась только во время Второй мировой войны, или это была дань вежливости, говорящая скорее о взаимоотношениях поэта с Г.Х. Чалхушьяном?
С «ничевоческим» периодом литературной деятельности поэтессы связана единственная прижизненная постановка в августе-сентябре 1920 г. в Ростове-на-Дону драмы В. Хлебникова «Ошибка смерти» (тогдашний муж Мар – Рюрик Рок – был организатором вечера, поэтесса открывала его). За несколько месяцев до своей смерти, 9 мая 1965 г., она так описывала постановку А.Е. Парнису:
Рок предложил устроить вечер Хлебникова, поставить пьесу “Ошибка смерти” и весь гонорар передать ему. Хлебников был очень доволен. Вечер состоялся, открывали его Олег Эрберг и я, читая разнобойные стихи, строчка его, строчка моя, стихов не помню <…>. Затем шла “Ошибка смерти” <…> Постановка была в подвале поэтов, а не у Вайсбрема (так!) в Театральной мастерской. Хлебников читал свои стихи с Хокусаем, было это тогда или раньше не скажу. Когда дошло до расплаты, и мы все отправились в помещеньице президиума, Рок сообщил, что он должен был заплатить артистам, а значит, не видит причины не уплатить поэтам. Денег очень много. Эрберг и я сразу отказались от гонорара. Рок тоже выступал не со стихами, но с речью, он не отказался от гонорара, кто-то еще поступил также. Рок передал толстый ком бумажек Хлебникову. Велемир Хлебников обиделся, бросил деньги на пол и ушел босиком в ночь (возможно, что он их порвал – не помню) [Парнис 2015, 25].
По-видимому, во время гастролей московских имажинистов в 1920 г. Мар влюбляется в А.Б. Мариенгофа. Согласно открытому письму поэтессы, опубликованному в первом сборнике ничевоков «Собачий ящик», официальный переход в другую группу произошел летом 1921 г.: «Прошу временно исключить меня из Становища и из членов ТЕОРНИЧБЮРО по причине перехода моего в имажинистки. Сусанна Мар . Москва. 30 июля 1921 г.» (полужирным выделено в источнике – Я.Ч .) [Собачий ящик 1922, 14]. Тем же числом датировано открытое письмо Рюрика Рока, который, пародируя язык официальных газетных заявлений, просит не считать Сусанну Мар его женой [Собачий ящик 1922, 14].
Как близкую к имажинизму (но не имажинистку) характеризовал Мар в воспоминаниях, написанных в 1934–1936 гг., теоретик группы В.Г. Шершеневич:
Близко к нам, вернее, к одному из нас, с отчетливым пробором, была Сусанна Мар, девушка из Ростова, с точеным лицом и неплохими стихами. Она безбожно картавила и была полна намерения стать имажинистической Анной Ахматовой. Теперь она хорошо играет в шахматы [Мой век 1990, 628, 711].
В приведенной цитате обращает на себя внимание противопоставление прошлого и настоящего. Тогда Мар была увлечена Мариенгофом, на кото- рого намекает Шершеневич («с отчетливым пробором»), хотела составить конкуренцию Ахматовой, стать равной по художественной величине имажинистам-мужчинам. Сейчас же поэтесса хорошо играет в шахматы, то есть не занимается творчеством. Шершеневич был несправедлив в своей оценке деятельности Мар. В ее автобиографии для Союза советских писателей читаем:
В 28 году я написала книгу рассказов для Молодой Гвардии, к сожалению, дальше верстки она не пошла. Детские рассказы мои печатались в журнале Мурзилка. Очерки в Красной Ниве. Стихи мои изредка передавались по Радио (Молодежное вещание). Кино либретто мое было принято Таджкино. Еще с детских лет меня пленяли переводы, однако я не занималась ими профессионально. Переводила Эдгара По, Байрона. Страстно увлеклась шахматами, дошла до второй категории, однако хронические бессонницы лишили меня возможности продолжать игру (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 39. Ед. хр. 170. Л. 66).
Помимо шахмат, Мар назвала и переводческую деятельность, и сборники рассказов, и очерки, и какие-то стихи, и либретто. Но все это явно не годилось для того, чтобы стать «имажинистической Анной Ахматовой»: группа имажинистов прекратила свое существование, как и лирическая героиня поэтической книги «Абем», учившаяся писать стихи и чувствовать по сборнику «Четки»: «Не с детства ли, лохматою / И милой, как пчела, / Я с “Четками” Ахматовой / Считала вечера» [Мар 1922, 8].
Исследователями установлено, что «образ, и теория образности поэзии понималась имажинистами по-разному и разрабатывалась каждым из них по-своему» [Русский имажинизм 2003, 15]. Мар, следовавшая в своем творчестве за Мариенгофом, перерабатывала темы и приемы «мэтра», предлагая собственный индивидуальный, гендерно окрашенный мир – женский извод имажинизма. Может быть поэтому один из слушателей ее стихов в «Стойле Пегаса» в июле 1921 г. дал такую характеристику летописцу и бытописцу группы Т.Г. Мачтету: «Вот странно, – сказал мой собеседник, увидя, что я заинтересовался Мар, – хорошие стихи, но совсем ведь не имажинистские» [Дроздков 2014, 742].
Важную роль в сборнике «Абем» (1922) играл образ поэта. В фигуре Мариенгофа для Мар были важны не столько теоретические построения (например, в «Буян-острове»), сколько его образ, отдельные детали, например, руки и глаза – дополняющие любовную тему, практически не раскрытую в поэзии Мариенгофа-имажиниста.
Его лирический субъект проявил себя как поэт-шут, выражался о любви кратко, как, например, в стихотворении:
Милая,
Нежности ты моей
Побудь сегодня козлом отпущения.
В этих трех строчках из пензенского альманаха «Исход» лаконично выражено кредо Мариенгофа соединять «чистые» и «нечистые» образы. В данном случае комически сближаются далекие понятия как «милая» и «козел отпущения» [Русский имажинизм 2003, 223]. То же находим в поэме «Магдалина», где высокий образ христианской святой-мироносицы соседствует с проституткой:
А я говорю: прячь, Магдалина, любовь до весны, как проститутка «катеньку» за чулок [Мариенгоф 2002, 38].
В «Буян-острове» поэт отрицал важность любовной темы, подчеркивал ее условность: «Только сумасшедшие верят в любовь. А так как поэты, художники, музыканты – самые трезвые люди на земле, – любовь у них только в стихах, мраморе, краске и звуках. Любовь – это искусство. От нее также смердит мертвечиной» [Поэты-имажинисты 1997, 33]. Если искусство для Мариенгофа выступает синонимом искусственности, то лирическая героиня Мар видит в нем спасение, освобождение от неразделенной любви.
Традиционная для лирики любовная тема раскрывается поэтессой с присущим ее сборнику «Абем» своеобразием. Исследователи имажинизма раскрыли криптограмму названия – это звуковая последовательность инициалов: А – Анатолий, Бэ – Борисович, эМ – Мариенгоф. Две фонемы Э объединены поэтессой в букву Е [Ларионова 2023, 32]. А сам псевдоним – Мар – образован от усеченной фамилии «Мариенгоф».
Сборник «Абем», по словам М.А. Торбин, не принес Мар ни славы, ни денег, а лишь одно прозвище мадам Флагрук, потому что в ней было стихотворение, посвященное Мариенгофу, которое начиналось: “Выкину белый флаг рук”. Озорная веселая Сусанна горестно переживала то, что не сложилась у нее жизнь с (А.Б.) Мариенгофом. Ему нужна была деловая женщина, а Сусанна презирала домоводство, до статок и удобства жизни [Торбин 2021, 175].
Платоническое увлечение поэтом и мысленное расставание с ним составили автобиографический пласт сборника. Неразделенная любовь оказалась связана с танатологическими мотивами, что вполне традиционно, а также с обожествлением мужского субъекта, возведением его в ранг демиурга.
Сборник «Абем» состоит из 18 стихотворений и одной поэмы (между 5-м и 6-м стихотворениями). Некоторые из образов энигматичны и подразумевают множество трактовок, в соответствии с заветами теоретиков группы. «Занозы образов» подчас вызывают затруднения в их понимании. Например,
Путь твой схвачен железными рельсами
Словно платье обнял кушак, Так звенят березы апрельские
Сквозь метель, сквозь декабрь в ушах [Мар 1922, 5].
Или
Только больше не плавать парусной
Лодкой в Балтийских плечах, Облака – словно белым гарусом В синих складках вышита печаль [Мар 1922, 18].
При сплошном чтении сборника повторяющиеся образы и мотивы позволяют выстроить общий лирический сюжет, заключающийся в переживании героиней неразделенной любви к поэту, от которого остались только стихи. Сам он то ли просто ее покинул, то ли вознесся. В первом стихотворении Мар задает движение сюжету - это игры памяти пожилой героини. Может быть, поэтому некоторые образы с трудом поддаются дешифровке?
Эту память скопила под старость, Словно деньги про черный день. Ничего от тебя не осталось, Только остов стихов один [Мар 1922, 5].
Поэтесса, конструируя пожилую фемининность, в духе эпохи, увлеченной психо-физиологическими научными теориями (фрейдизм, физиология И.П. Павлова, рефлексология и психопатология В.М. Бехтерева, учение о доминанте А.А. Ухтомского и т.д.), обращает внимание на особенности памяти человека преклонного возраста. Героиня «Абем» выстраивает свои «мемории» вокруг памятных событий или обрывков от этих событий, произвольно приводя отдельные яркие образы, в контексте индивидуального переживания не поддающиеся расшифровке.
Смело, так суслики в поле Перекусывают колосья, Или месяц упрямый волен Повторить свой профиль в колодце.
Или, ты повторился, как в зеркале, В точных, шлифованных руках, Мне ли имя твое, до ресниц раскаленное, В именах посторонних искать [Мар 1922, 26].
Не понятно, как суслики сочетаются с месяцем и с отражением в зеркале. Почему имя возлюбленного оказывается раскаленным до ресниц? Почему его нужно искать в посторонних именах? Связана ли последняя строчка из приведенной цитаты с мотивом забвения любимого? Или речь идет о новых увлечениях героини?
С уверенностью можно сказать, что романтическая история привязана Мар к конкретному локусу - Москве. Героиня называет сам город («Эту память скопила под старость.») и его места: Арбат, памятник Гоголю, Тверскую улицу («Как дрожит деревянная горница...»), кафе имажинистов «Стойло Пегаса» («Благослови меня, Анатолий.»), Богословский переулок («Осушить-бы всю жизнь, Анатолий.»). Перечисленные места в прошлом счастливых встреч с возлюбленным, окрашены в печальные тона. Арбат связан с бессонницей («По Арбату безсонница гонится.»), памятник Гоголю - со слезами («И так просто слезами повиснуть / На соленых ресницах Гоголя») [Мар 1922, 18]. Виной всему поэт Анатолий, по словам лирической героини, покинувший ее:
По стаканам, словно по вехам
Он отмечен выпитый путь О том, который уехал, Которого не вернуть.
Только память к нему пристала,
Словно к пальцам загар, или клей, Словно рельсы сгустками стали Запеклись на черной земле [Мар 1922, 24].
В другом стихотворении героиня приводит подробности «последнего прощания» с очевидной эротической подоплекой:
Сладок день последнего прощанья,
Слаще меда дарственная ночь
И железом млечный путь протянут
Для твоих неколебимых ног [Мар 1922, 22].
Результат «последнего прощанья» – ощущение греховности произошедшего, но не из-за падения героини, а несколько другой интенции, не артикулируемой героиней. Она верит, что искупление возможно благодаря творчеству.
За любовь, за ласки, за улыбки
В переплете радостном греха, Расплачусь за все свои ошибки Звонкою монетою стиха [Мар 1922, 12].
Тема греховной любви связана с творчеством, точнее с литературным ученичеством. Напомним, что от ушедшего Анатолия героине о стались только стихи, по их лекалам она надеется отточить собственное мастерство и прийти к искуплению грехов молодости:
Для тебя все зимы, все ночи,
Весны и звездное жито.
Это ты мои строчки отточишь, Как тяжелый, солдатский штык.
За отсутствием реального учителя покинувший героиню поэт Анатолий превращается ею в сверхличное существо, наделенное способностями святого, приближенного к тайнам бытия и дарующего счастливое посмертие. Лирическая героиня наделяет отдельные части сконструированного образа магическими свойствами. Так, губы героя, к которым она хочет прильнуть, заменяют ей обряд причастия. Поэма реального Мариенгофа, унаследованная его проекцией, «Застольная беседа» сравнивается со Святыми Дарами. Сам Анатолий получает способность исцелять духовные и телесные недуги, и благословить на путь отречения:
Благослови меня, Анатолий,
Отречения душен путь,
Словно стихи, зачитанные в «Стойле»,
Знаю руки твои наизусть.
Всё забыла и лето, и осень, Твои губы отрадней весны. Лёгкий ветер далеко уносит, Пыль золотую ресниц [Мар 1922, 23].
Другой атрибут «святого учителя Анатолия» – руки, один из главных «творческих инструментов» поэта, связанный с представлениями создании чего-либо. Как видно из приведенной выше цитаты, лирическая героиня знает его руки наизусть. В сборнике «Абем» этому образу сопутствуют различные эпитеты: руки Анатолия кипарисные, неживые и гипсовые, долгие и белые, астральные, шлифованные. Героиня сравнивает их с веригами и обручем. «Я несу твоих рук вериги / С запада на ласковый Восток» («Поэма»); «Никто не любил хмельнее, / Крепче олова обруч рук» («Поэма»). Рука в данном случае не только часть образа поэта, инструмент «творческого производства», если вспомнить максимы Мариенгофа из «Буян-острова», но и часть воспоминания о «последнем прощанье», физиологические подробности которого целомудренно опущены пожилой героиней. Руки важны и для совершения таинств, особенно для символических жестов, вроде благословения, которое хочет получить героиня. Учитывая, что любимый ее покинул, вряд ли желание исполнится. Она может только мысленно возносить молитвы своему святому, что и делает в некоторых стихотворениях сборника.
В отсутствие объекта любви происходит замещение и символических предметов, связанных с божественным культом. Лирическая героиня в сдвинутых в молитвенном жесте руках на деревянном распятии видит ладони Анатолия, а вместо страдальческих глаз Спасителя – его глаза:
К распятью рук кипарисному Приложиться в последний раз, Даже у Елены не видел Парис Таких голубых глаз [Мар 1922, 7].
Божественная красота Анатолия подчеркивается сравнением с прекрасной Еленой. Контаминация языческих и христианских образов служит одной цели – конструированию своего святого. В воображении героини он превращается в статую.
На Восток-ли, в Москву, в Египет, Не уйти от луны и звезд, И от рук неживых и гипсовых, И от слишком ровных волос [Мар 1922, 10].
Получивший своего идола и свои атрибуты, Анатолий оказывается связан с космическими силами:
Млечный путь твои встречи выстелил, Об иных дорогах не спросишь... [Мар 1922, 6]
В описании глаз героя наиболее ярко проявляется его ирреальная сущность, связь с явлениями небесного, космического порядка.
Твоих глаз студеных напиться
И глаза твои тоже на звездах [Мар 1922, 5];
И в какие спрятаться ночи,
Если небо – его глаза… [Мар 1922, 10];
Даже месяц вскочил на цыпочки Заглядеться в твои глаза… [Мар 1922, 15];
Не глаза, но сияние Северное И почти астральные руки [Мар 1922, 16];
Когда-то до боли синие
Глаза твои, или небо [Мар 1922, 20].
Но твоими глазами выглянул
Молчаливый, серебряный шар (Луна. – Я.Ч.) [Мар 1922, 23].
Сконструированный образ Анатолия по своему религиозному влиянию приближен к христианским святым, а в плане творчества превосходит их. Лирическая героиня упоминает пятичастную поэму реального Мариенгофа «Застольная беседа» (1921), которую она хочет услышать после смерти из уст Христа.
Жизнь пройдет, словно корь не за то ли, Чтоб за Тайной Вечерей, там, Услыхать «Беседы Застольные»
На холодных губах Христа [Мар 1922, 6].
Название поэмы Мариенгофа отсылает к пушкинскому «Table-talk». Пушкинская тема задана в первой части: «Звени застольная беседа, / Тумань блеск Пушкинских годов» [Мариенгоф 2002, 71]. Задача, которую ставит поэт-имажинист – «затуманить блеск» застольных бесед пушкинской поры, на новом витке развития литературы предложить аналог, а может быть даже преодолеть жанровую форму «Table-talk». Лирический герой, почти тождественный с автором, вполне уверен в своих силах, он сравнивает себя с Лоренцо Медичи, по прозвищу «Великолепный», эклектичным поэтом и экспериментатором XV в.: «Великолепен был Лоренцо / Великолепней Мариенгоф!» [Мариенгоф 2002, 71] Прозе пушкинских «Table-talk» противопоставляется поэтическая «Застольная беседа». На этом различия с произведением Пушкина заканчиваются.
Как известно, в «подборке “Table-talk” содержится несколько типов записей: анекдоты исторические, анекдоты современные, портреты современников, записи автобиографического характера и заметки, близкие по жанру тем, которые сам Пушкин, печатая их в “Северных цветах” на 1828 год, определил как “Отрывки из писем, мысли и замечания”» [Левкович 1987, 70]. Мариенгоф в стихах воспроизводит жанровую форму застольных бесед. В пяти частях мы найдем размышления о посмертном существовании, тосты, подробности о Первой мировой войне, близкие к историческому анекдоту (сравнение битья бокалов с разбитыми сибирскими полками в Польше), максимы, претендующие на афоризмы («Иди за дружбой и гони любовь!»), плач по умирающему городу (непонятно какому), проклятья и возвышенные речи, историософские размышления («Где ты Великая Российская Империя, / Что жадными губами сосала Европу и Азию, / Как два белых покорных вымени?.. // Из ветрового лука пущенная стрела / Распростерла / Прекрасную хищницу»), здравицу революции в финале.
Для Мариенгофа характерны обращение к литературному авторитету Пушкина, заявления о преемственности имажинистского творчества с завета- ми поэта, в сближении 20-х гг. XIX в. и 20-х гг. XX в., в развитии пушкинских тем дружбы, прощания с молодостью, творца и толпы, быстротечности жизни (подробнее см: [Поэты-имажинисты 1997, 249–254]). Вероятно поэтому лирическая героиня сборника «Абем» надеется на том свете услышать «Застольную беседу», как напоминание о днях горения творчеством и любовью, проникнутых пушкинским духом дружбы. Интересно, что героиня усаживает себя за один стол с Христом во время Тайной вечери, происходящей по ту сторону земного бытия.
Мертвый Христос, последняя земная трапеза, справляемая после смерти, уподобление себя апостолам может показаться кощунственным. Но если рассматривать эти образы и сюжетные ситуации в контексте имажинистского антихристианства, понимаемого как ответ на кровавую изнанку революционных событий в России, где вместо чаемого преображения страны наступила эпоха вульгаризации и нигилизма, то мертвый Христос, его апостолы и сама лирическая героиня «Абем» оказываются за пределами антимира, становление которого начало происходить после 1917 г. Апокалипсис уничтожил не только политическую, социальную, культурную, но и религиозную, духовно-нравственную стороны жизни бывшей Российской империи. Новая реальность рождала новых богов и новые отношения, безразличные героине «Абем». Она мыслит в категориях своего «мэтра», Анатолия, для которого пушкинская интенция оказывается важнее, чем революционные события, а смешение «чистых» и «нечистых» образов в стихах не более чем вопросом содержания и формы, то есть литературным, а не философским. Соседство Христа и «Застольной беседы», апостолов и лирической героини Сусанны Мар – поэтическая условность, «заноза образа», эпатаж читателя, побуждающий к выстраиванию интерпретаций.
В работах, посвященных трансформации библейских сюжетов и образов у имажинистов, говорится о десакрализации, т.е. обесценивании священных образцов, религиозных представлений, мировоззренческих установок Писания. Если рассматривать стихотворения «Абем» как развитие единого лирического сюжета, то речь скорее должна идти о пересакрализации , поскольку на место «холодных губ Христа», отправленного справлять последнюю трапезу на тот свет, ставятся губы Анатолия – нового, если даже не личного святого, от которого зависит посмертное существование лирической героини:
Причаститься бы губ твоих Анатолий, Тяжко умирать грешницей.
Со Святыми Дарами «Бесед Застольных», Соборуешь-ли дни кромешные [Мар 1922, 7].
В созданную космогонию, где Анатолий приближен к христианским святым, так или иначе проникают эмоции лирической героини: обида, отчаяние, злость на покинувшего ее «земного» поэта, подчеркивающие условность созданного в памяти героини образа:
Из-за глаз моих злоба чернее, Из-за губ закаты красней Верный холод собакой немеет, Прижимаясь к жестокой сосне [Мар 1922, 18].
Закат, оранжевым заревом Памяти следы изгладь.
Не приснятся больше глаза его, Захлестнет их верстами мгла.
Помню: обещала не думать О чужих, стеклянных ладонях, Просто ветер памятью дунул Горстью снега задул огонь.
Понедельники, вторники, среды До слез выкипающих из глаз. Я не знаю, кто унаследует
Кольцо обручальное ласк [Мар 1922, 20–21].
Банальный лирический сюжет об оставленной женщине и ее переживаниях превращается в сборнике «Абем» в космогонический миф о сотворении и утрате любовного Рая, условность которого понимает и сама героиня. Конструируя пожилую фемининность, Мар выбирает нетривиальный ход – представить историю через игры памяти. В результате читатель оказывается в условном мире, состоящем из обрывков романтических ситуаций, знаковых для индивидуального сознания, но трудно расшифровываемых внешним наблюдателем, образов и деталей любовной истории, эмоциональных откликов и оценок как поступка поэта Анатолия, так и собственных переживаний по этому поводу. Космогонический сюжет связан с созданием покровителя, божества, альтернативного христианским святым и самому Спасителю, в ходе служения которому возможно отточить поэтическое мастерство и искупить любовный грех творчеством. Уверенность лирической героини в то, что именно поэзией она сможет избыть свою тоску по любовнику, подкрепляется только ее верой в силу и величие строк поэта Анатолия, унаследовавшего от реального Мариенгофа поэму «Застольная беседа». В поэтическом мире Мар это значение названного произведения можно рассматривать наряду со Священным Писанием, поскольку именно строки поэмы лирическая героиня желает услышать из уст Христа после своей смерти. Мистериальный сюжет оканчивается тупиком. Сконструированный в воображении героини святой не отвечает на ее мольбы.
Список литературы Мужской сверхсубъект в поэтической книге Сусанны Мар "Абем"
- Александрова Э.К. Литовские народные песни в переводе Вяч. Иванова / публ., вступ. ст., коммент. Э.К. Александровой // Studia Litteraram. 2022. Т. 7. № 2. С. 318-343.
- Дроздков В.А. Dum Spiro Spero: о Вадиме Шершеневиче и не только: статьи, разыскания, публикации. М.: Водолей, 2014. 800 с.
- Ларионова Л.Г. Азбука имажинизма: путеводитель по истории бунтарского литературного движения. М.: Бослен, 2023. 96 с.
- Левкович Я. Л. «Table-talk» Пушкина // Русская литература. 1987. № 1. С. 70-77.
- Мар С.Г. Абем. М.: Показ. тип. Пром.-показ. выставки ВСНХ, 1922. 30 с.
- Мариенгоф А.Б. Стихотворения и поэмы. СПб.: Академический проект, 2002. 351 с.
- Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова: Сборник / Сост., указатель имен С.В. Шумихина и К.С. Юрьева. Вступ. статья, комментарий С.В. Шумихина. М.: Московский рабочий, 1990. 735 с.
- Никитаев А.Т. Ничевоки: материалы к истории и библиографии // De visu. 1992. № 0. С. 59-64.
- Парнис А.Е. К истории постановки пьесы Хлебникова «Ошибка смерти», или рассказ об одном апокрифе // Велимир Хлебников и мировая художественная культура: Материалы XII Международных Хлебниковских чтений, посвященных 130-летию со дня рождения Велимира Хлебникова, Астрахань, 10-12 сентября 2015 года / Под редакцией Г.Г. Исаева. Астрахань: Астраханский университет, 2015. С. 19-26.
- Поэты-имажинисты / сост. подгот. текста, биогр. заметки и примеч. Э.М. Шнейдермана. М.: Аграф; СПб.: Петербургский писатель, 1997. 535 с.
- Русский имажинизм: История. Теория. Практика. М.: Линор, 2003. 518 с.
- Собачий ящик, или Труды Творческого Бюро Ничевоков в течение 1920-1921 гг. Вып. 1 / Под ред. Главного Секретаря Творничбюро С.В. Садикова. М.: Хобо, 1922. 14 с.
- Торбин М. На редкость неустроенный человек. Воспоминания. Подготовка текста и примечаний А.Г. Меца, Л.М. Видгофа // Знамя. 2021. № 5. С. 158-181.