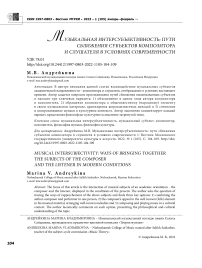Музыкальная интерсубъективность: пути сближения субъектов композитора и слушателя в условиях современности
Автор: Андрейкина М.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Искусство и эстетика
Статья в выпуске: 1 (105), 2022 года.
Бесплатный доступ
В центре внимания данной статьи взаимодействие музыкальных субъектов академической направленности - композитора и слушателя, отображаемое в условиях настоящего времени. Автор задается вопросом прослеживания путей сближения вышеназванных субъектов и находит три ключевых варианта: 1) объединение в одном лице автора-композитора и исполнителя, 2) обращение композитора к общеизвестному (народному) элементу в своем музыкальном материале, аранжировка широкоизвестных мелодий и 3) сочинение и воспроизведение музыки в культурном контексте. Автор лаконично комментирует каждый вариант, представляя философско-культурное осмысление затронутой темы.
Музыкальная интерсубъективность, музыкальный субъект, композитор, исполнитель, философия музыки, философия культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/144162458
IDR: 144162458 | УДК: 78.01 | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-1105-104-109
Текст научной статьи Музыкальная интерсубъективность: пути сближения субъектов композитора и слушателя в условиях современности
Музыка – это не только звуковое искусство, в котором единица измерения – звук в его различных тембральных, регистровых, ритмических и мелодических проявлениях. Это в то же время процесс, который в той или иной степени предполагает интерсубъективное взаимодействие , то есть направленность, с одной стороны на композитора как автора, создателя музыкального произведения, с другой – на субъект слушателя, степень его интереса, вовлеченности, внимания к звучащему полотну [4].
В современных условиях композиторы академической направленности могут быть не поняты или не до конца поняты аудиторией [7], поскольку на концертах с классическим репертуаром, где исполняется музыка XVII, XVIII, XIX, XX столетий, сохраняется довольно невысокий процент посещаемости. Связано ли это с недостатком информации или со сменой музыкальных интересов публики? Каким образом мы можем проследить пути сближения субъектов композитора и слушателя, которые имеют корни в прошлых столетиях и отображаются в условиях современности?
-
1) В истории академической западной музыки композитор и исполнитель как музыкальные субъекты часто могли быть одним и тем же лицом1. Если вспомнить композиторские опусы классиков – композиторы представляли вниманию публики свои новые творения,
1 Что касается восточной музыки, здесь вряд ли есть кардинальное отличие в плане донесения музыкальной мысли до аудитории, поскольку сам автор часто представлял свои творения на суд публики повсеместно.
чаще всего, самостоятельно их исполняя (речь главным образом о клавирно-фортепианных, скрипичных произведениях Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена и т.д.), или в написанных ими партиях главные соло в ансамблевых и оркестровых сочинениях играли сами авторы. Выступление в одном лице автора-композитора и исполнителя вызывало жгучий интерес публики и создавало высокие по тем временам рейтинги композитора и автоматически его сочинения. Лишь со временем, как известно, исполнительское искусство отделилось в собственное направление, став особым пластом музыкальной деятельности, отличным от композиции [2].
В какой степени публику волнует, кто выступает на сцене: композитор и/или исполнитель? И вообще ощущает ли слушатель среднего класса четкую разницу между этими понятиями? В этом плане можно провести аналогию с описанной шестьдесят лет назад Теодором Адорно точкой зрения о том, что представляет собой классовое расслоение по отношению к музыке как таковой. «Музыка имеет дело с классами в той мере, в какой классовые отношения запечатляются в ней. Та позиция, которую занимают при этом сами средства музыкального языка, остаются эпифеноменами по сравнению с явлением самой сущности. Чем в более чистой и бескомпромиссной форме музыка постигает антагонистические противоречия, чем более глубокое структурное оформление они получают, тем меньше музыка оказывается идеологией и тем более – верным объективным созна- нием» [1, с. 65]. Поскольку нас интересует именно субъект, который обеспечивает собственно звучание музыки, то для аудитории не столь критичную роль играет, почему и как родилось то или иное произведение, а скорее то, как оно представлено в момент звучания, какие эмоции, впечатления и мысли вызывает. И уж конечно исполнитель — ни в коей мере не эпифеномен по отношению к создателю произведения, а ключевой субъект, позволяющий получателю музыкального продукта его понять и в той или иной степени осознать.
Так, первый путь сближения субъектов композитора и слушателя – объединение персоны композитора и исполнителя в момент воспроизведения музыки, которое позволит современному композитору стать более востребованным и понятным для публики. Личная активность и творческая инициатива композитора XXI века, в том числе в мультимедийном интернет-пространстве, включая социальные сети, открытый доступ к нотной базе, дескрипция авторского замысла – важное подспорье композиторского успеха у аудитории.
-
2) Вполне очевидно, что слушательская аудитория может меняться в зависимости от стиля композиторской музыки, жанра произведения, используемых композиторских техник и самого исполнения. «Чаще всего композиторы хотят, чтобы их произведения слушали в качестве отдельных продуктов и, следовательно, воспринимали как методы общения с аудиторией. И это намерение молчаливо понимается аудиторией и включается в культуру слушания» [10, p. 520]. Слушая сочинение, слушатель непременно начинает искать какой-то цепляющий элемент, какую-то «фишку», позволяющую легко дифференцировать звучащий продукт.
В этой связи следующий наиболее действенный способ сближения двух субъек- тов – композитора с публикой – это включение общеизвестного национального элемента в музыкальный материал, аранжировка мелодий, которые всем хорошо известны: подобно тому «как весь дуб в желуде» (по выражению Чайковского о «Камаринской» Глинки), в фольклорной и народной музыке заключена мудрость той или иной национальной композиторской школы.
Стоит учитывать, что «в музыке ровно столько национальных элементов, сколько вообще в буржуазном обществе — история музыки и история ее организационных форм протекала, как правило, в рамках нации. И это не было обстоятельством внешним для музыки. Несмотря на свой всеобщий характер, которым она обязана тому, чего у нее недостает по сравнению со словесной речью, — определенных понятий, — у музыки есть национальная специфика. Нужно реализовать эту специфику для того чтобы музыка стала вполне понятной, это нужно, по-видимому, и для полного понимания ее всеобщности» [1, c. 137].
Народная песня – это некий голос общины, коллективная душа, некий остаток бесчисленных переживаний группы людей, запись общих эмоций и общей формы жизни. В наше время существует множество аранжировок мелодий, известных в тесных кругах того или иного народа, народности. Так, в Германии поют «Ja, wir sind die lustigen Holzhackerbuam», «Die Fischerin vom Bodensee» и другие немецкие народные песни, в Шотландии – шотландские народные «My Bonnie lies over the ocean», «We are the warriors» и др., в Англии – английские народные песни «Lovely Joan», «Greensleeves», или спиричуэлс «Swing Low Sweet Chariot». В России – это «Ой цветет калина», «Вдоль по Питерской», «Ухарь купец». Кроме того, каждая республика,
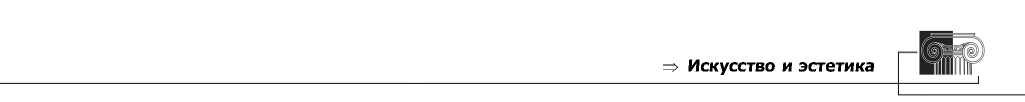
каждый регион нашей страны богаты своими народными песнями: в Башкирии – это «Уйыл», «Сибай», в Татарстане – «Туган як», «Су буйлап», «Рәйхан», в Чувашии «Эх чун», «Вĕç-вĕç, куккук», в Марий Эл – «Серге вате», «Лай Мардеж», в Мордовии – «Вирев молян», «Вай пак ся са», «Луганяса келунясь», и многие другие.
В начале XXI века фолк-направление сближается с традиционным академическим. Композиторы используют народные мелодии в рамках образцов академической музыки часто для того, чтобы сознательно представить и сконцентрировать внимание аудитории на голосе не одного индивида, а целой общины, народности. Популярность приобрели также импровизации на народные темы.
Кроме того, сочинение и воспроизведение музыки происходит в культурном контексте , который позволяет произведению обретать заложенную композитором субъективную идею и соответственно оказывать необходимое воздействие на публику. Любые нововведения, отклонения от традиционного и общепринятого «набора ожиданий», любая смена контекста, музыкального антуража могут стать намеренной или ненамеренной попыткой музыкального субъекта привлечь новую аудиторию, которая будет способна рационально оценить модную тенденцию. Такими так называемыми трендами в разные эпохи становились романтизм, неоклассицизм, необарокко, импрессионизм, модернизм, джаз, популярная музыка.
«Субъективное опосредование, все социальное у пишущих музыку индивидов с их схемами поведения (которые направляют их деятельность так, а не иначе) состоит в том, что субъект сам является моментом производительных сил общества, если даже он ошибочно видит в себе только некое бытие-для-се- бя. Такое внутренне опосредованное, сублимированное искусство, как музыка, требует сложившегося субъекта, сильное Я, способное на противодействие, - для того чтобы музыка могла стать объективным лозунгом общества, могла оставить позади случайность своего порождения именно данным субъектом. То, что называют «душой», то, что каждый защищает от буржуазного общества с его угнетением словно некую собственность, - это как раз самая суть социальных форм реакции, противостоящая угнетению, - даже антисоциальные реакции принадлежат к их числу. Всякая оппозиция обществу, всякая индивидуальная сущность, незаметно проявляющаяся уже в том, что произведение искусства выходит из круга социально-необходимого, всякая оппозиция, будучи критикой общества, является всегда и рупором общества. И потому попытки обесценивания именно того, что не признано обществом, не усвоено им, в равной степени есть нелепость и идеология, независимо от того, стремятся ли этим очернить музыку за то, что она не служит никакому коллективу, или же стремятся исключить из сферы социологического изучения те явления, которые лишены массовой основы» [1, c. 182].
Академическая музыка в условиях XXI столетия может иметь определенный резонанс, если будет представлена в новом качестве. Синтез искусств в этом плане может стать важным катализатором восприятия музыкального сочинения.
В частности, этому могут способствовать включение в процессе исполнения музыкального произведения визуального слайд-шоу с просмотром видеоматериалов и/или изображений, или эффект мгновенного рождения живописных полотен на глазах зрителей с помощью рисования песком. Эффект светового и огненного шоу в процессе звучания академической музыки – еще один пример обновленного восприятия музыкального материала аудиторией. Слушатель в таких случаях получает возможность соотнесения звуковых образов с их визуальным, телесным воплощением, тем самым глубже переживая и впитывая их композиторский замысел. Вышеназванные и иные способы синтеза искусств были неоднократно применены Белгородской филармонией в рамках концертных программ в Органном и Большом залах.
Слушателю, являющемуся поклонником музыки классико-романтической традиции, но встающему на путь освоения сочинений атональной и неклассической направленности, весьма непросто поначалу воспринимать произведения, в которых есть чрезмерно насыщенный и замысловатый гармонический язык, где едва ли ощущается тональный центр, где диссонансные сочетания окутывают музыкальную ткань [8]. Взглянув на музыкальные произведения композиторов ХХ и XXI столетия - от опусов А. Шенберга, И. Стравинского, А. Скрябина до сочинений А.Зацепина, Р.Калимулли-на, Э.Низамова - прирожденный классик или романтик почувствует недоразумение в связи с завуалированностью и неодно- значностью гармонических вертикалей, в некоторой степени сумбурной неясностью нотного материала, в котором доминанта как функция, традиционно стремящаяся в тонику, колеблется, не имея ясного ухода в устой. Слушатель ощутит, как композитор словно играет с ним, не давая однозначного решения, а подсовывая ему острые и одновременно «ползучие» интонации в сочетании с эмансипированными диссонансами. Вот здесь и приходит важность культурного контекста, поскольку продуманность восприятия сочинения облегчает его понимание современной публикой, слушателем XXI века [6].
Таким образом, в рамках данной статьи, задаваясь вопросом прослеживания путей сближения субъектов композитора и слушателя, мы находим три таких способа: 1) объединение в одном лице автора-композитора и исполнителя, 2) обращение композитора к общеизвестному (народному) элементу в своем музыкальном материале, аранжировка широкоизвестных мелодий и 3) сочинение и воспроизведение музыки в культурном контексте. Осмысляя в философско-культурном плане затронутую тему, данный вопрос может оставаться в будущем открытым и являться плодом размышлений следующих поколений.
Список литературы Музыкальная интерсубъективность: пути сближения субъектов композитора и слушателя в условиях современности
- Адорно Т.В. Избранное: социология музыки. Москва: Российская политическая энциклопедия, 2008. 448 с.
- Андрейкина М.В. Музыкальный субъект как философское понятие// Научные ведомости БелГУ: Философия. Социология. Право. 2019. Том 44, №3. С.513-518.
- Безбородова Л.А. Ребенок как субъект музыкального развития // Безбородова Людмила Александровна. Теория и методика музыкального образования. Учебное пособие. Москва: Флинта, 2014. 121 с.
- Панаиотиди Э.Г. К проблеме интерсубъективности музыкального опыта. // Министерство просвещения Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.art-education.ru/electron-ic-journal/k-probleme-intersubektivnosti-muzykalnogo-opyta-1.
- Панаиотиди Э.Г. Эстетический опыт: трудная судьба понятия // Полигнозис. 2003. - № 2. С. 115-125.
- Цзинбо Л.Т. Проблемы и возможности концертно-просветительской работы в дистанционных условиях. // Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2021. T. 10. № 1(34), с. 176-179.
- Фуко М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981-1982 учебном году. Санкт-Петербург: Наука, 2007. 677 с.
- Фуртвенглер В. Музыкант и его публика. Советская музыка, 3: 1960. С. 22-33.
- Чередниченко Т.В. Герменевтика и музыкознание. Москва: Информкультура, 1984. 29 с.
- Scruton Roger.Composition // The Routledge companion to Philosophy and Music. Edited by Theodore Gracyk and Andrew Kania. New York, 2011. Р. 517-524.