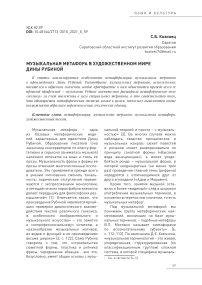Музыкальная метафора в художественном мире Дины Рубиной
Автор: Козинец Сергей Борисович
Журнал: Сфера культуры @journal-smrgaki
Рубрика: Язык и культура
Статья в выпуске: 3 (5), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются особенности метафоризации музыкальных терминов в произведениях Дины Рубиной. Разнообразие музыкальных терминов, используемых писателем в образном значении, особое пристрастие к ним объясняется прежде всего ее прошлой профессией - музыкант. Рубина значительно расширила метафорическое поле «музыка» за счет вовлечения в него специальных терминов, а это свидетельство того, что обогащается метафорическая система языка в целом, поскольку выявляются новые возможности образного переосмысления лексических единиц.
Метафоризация, музыкальные термины, музыкальная метафора, художественный текст
Короткий адрес: https://sciup.org/170178632
IDR: 170178632 | УДК: 82.09 | DOI: 10.48164/2713-301X_2021_5_59
Текст научной статьи Музыкальная метафора в художественном мире Дины Рубиной
Музыкальная метафора – одна из базовых метафорических моделей, характерных для идиостиля Дины Рубиной. Образование писателя (она закончила консерваторию по классу фортепиано и серьезно занималась музыкой) наложило отпечаток на язык и стиль ее прозы. Музыкальность фразы и формы ее прозы отмечают многочисленные исследователи. Это проявляется прежде всего в умении «мгновенно сменить тональность: лирические отступления перемежаются с экспрессивными монологами, а летящая на всех парах фабула внезапно делает передышку для философских размышлений» [1]. Отмечается также, что произведения Рубиной «являются ярчайшим примером диалогического взаимодействия текстов различного генезиса, в особенности изобразительного и музыкального искусства» – это заметно и «непрофессиональному» читателю, а «разнообразие музыкальных мотивов, их видов и функций в ее произведениях весьма широко» [2, с. 122]. Сама Рубина говорила о том, что «строительство сюжетной формы, пластика и ритмика фразы, чередование абзацев… все это, безусловно, имеет общие основы с музы- кальной теорией и просто – с музыкальностью» [3]. Во многих случаях можно наблюдать сходство прозаических и музыкальных жанров: сюжет повестей и романов может разворачиваться по принципу сонатной формы («Высокая вода венецианцев»), а может уподобляться рондо – музыкальная форма, в которой неоднократные (не менее трех раз) проведения главной темы (рефрена) чередуются с отличающимися друг от друга эпизодами («Адам и Мирьям»).
Кроме того, занятия музыкой оставили и более «видимый» след в широком употреблении музыкальных терминов, в основном в переносном значении, то есть музыкальных метафор1.
Под музыкальной метафорой мы понимаем группу метафорических наименований, возникших на базе музыкальных терминов, – подобные метафоры В.П. Москвин называет «метафорами по вспомогательному субъекту» [6, с. 112–113]. По замечанию Д.Е. Хохонина, «музыкальная терминология – это живая, упорядоченная, структурированная (по классификационным группам) сложная система, в которой специфика музыкаль- ного термина соотносится с его принадлежностью к определенной тематической группе» [7, с. 28]. По сравнению с другими тематическими полями (анималистической, флористической, пространственной метафорами) [8, с. 74-85] музыкальная метафора пока еще незначительно представлена в языке: из всех зафиксированных в словаре [9] музыкальных терминов только 32 слова, по данным МАС1, развивает переносное значение (аккомпанемент, аккорд, ансамбль, гармония, гамма, мелодия, концерт, нота и др.). В художественной литературе и публицистике отмечено гораздо больше метафорических переносов – 93 единицы, что говорит о развитии регулярности метафорических переносов в сфере музыкальной терминологии2.
Анализ различных текстовых источников показал, что в метафорическую сферу вовлекаются различные музыкальные термины, как общеупотребительные, например названия музыкальных инструментов и их частей - скрипка, виолончель, флейта, струна , так и специальные, обозначающие темп, ритм, особенности извлечения звука: стаккато, аллегро, престо, легато, глиссандо 3.
Произведения Дины Рубиной также отличаются разнообразием метафорических переносов в сфере музыкальной терминологии, при этом стоит отметить, что метафоры, основанные на внешнем сходстве, писатель использует редко, возможно, из-за их явной очевидности (метафорически переосмысляются в основном названия инструментов и их части). Однако даже такие «очевидные» зрительные образы наполняются звуковым содержанием: «Оглядывалась и смотрела на шлейф Венеции за плечом, на вздымающиеся в небо фанфары печных труб»4. Слово «фанфары» вызывает ассо- циации не только по сходству формы: они олицетворяют движение ввысь, в небо, создают ощущение торжественности (именно для торжественной музыки они чаще всего используются).
Слово « струна », метафоризируясь, приобретает самые разные значения, например значение “луч”: «А когда он проснулся, солнечные струны уже дотянулись в самый угол, к массивному темно-красному буфету с пузатыми стеклянными дверцами, заблудились там и вскоре погасли»5. Форма множественного числа – струны – ассоциируется с музыкальным инструментом, создается синестетический цветозвуковой образ.
Смысловая связь может поддерживаться не только зрительным сходством, но и звуковым, как, например, струи шумящего водопада: «…в заповедник, с его чахлой растительностью, тремя козочками на крутых каменных тропах и тощими струнами водопадов»6.
Иногда важным оказывается не форма, а сходство ситуаций, например, когда шлагбаум сравнивается с дирижерскими палочками: «Едва дирижерские палочки шлагбаума стали медленно подниматься, под них нетерпеливо поднырнул мальчик на велосипеде»7. Дирижер так же поднимает палочку перед началом концерта, давая знак музыкантам к началу игры, как и поднятый шлагбаум разрешает движение транспорту.
Названия инструментов используются прежде всего для характеристики звуков, напоминающих звучание того или иного инструмента. Так, слово «валторна» приобретает значение “голос, похожий на звук валторны; звучный, раскатистый”: «А вот у меня есть пациент, – вступил своей неутомимой валторной доктор»8. Прилагательное колокольный служит для характеристики громкого, раскатистого голоса: «…Клара Тихонькая возвышала с трибуны свой каленый колокольный глас»1.
Стоит отметить, что не только человеческий голос, но и язык вообще Рубина оценивает прежде всего с точки зрения его музыкальности, когда он воспринимается через звучание, интонацию, гармонию: «Для каждого языка у него существовало гармоническое соответствие, и чтобы перейти с языка на язык, нужно было прислушаться… приклонить свое ухо, как говорят мудрецы восточных сказок, к глубинной сути самого себя; перейти в другую тональность»2.
Термины, обозначающие инструменты, могут использоваться для более сложных образов. Так, виолончель, с ее глубоким, сочным, певучим, напряженным звуком, в верхнем регистре на нижних струнах слегка сдавленным, помогает передать душевное состояние человека: «И тогда виолончельная тоска, всегда настигающая меня в минуты соприкосновения с музыкальным прошлым, а вернее, и не тоска, а призрак тоски: сгущается и ласково притягивается к живому моему сердцу»3.
Одно и то же слово приобретает у писателя различные оттенки значения, реализуя разные семы. Например, слово «партитура» – “нотная запись многоголосного музыкального произведения, предназначенного для исполнения ансамблем, хором или оркестром”, в одном случае актуализирует сему “многоголосие”: «Ибо музыка и ярость здешних ветров, их сложнейшая партитура навевали древним пастухам сюжеты всех наших мифов и легенд»4. В другом – “запись”: «Явилась Ольга с партитурами меню»5. В последнем примере метафора «повышает значимость» предмета, наме- кая на то, что блюда в этом заведении являются произведениями искусства.
Метафорически может переосмысляться целая ситуация, которая описывается с помощью музыкальных терминов. Например, храп спящей женщины Дина Рубина «расписывает» как партитуру симфонического произведения, где учитываются все музыкальные нюансы: «Девочка остановилась против бабки. Минуты две неподвижно хищно следила за развитием увертюры: по мере того как голова старухи запрокидывалась все дальше, рот открывался все шире, в контрапункте храпа заплескались подголоски, трели, форшлаги, и вскоре торжествующий этот хорал, даже в ровном гуле аэропорта, обрел поистине полифоническую мощь»6. Развернутая метафора не только создает живописную картину происходящего, но и служит ярким средством создания комического: представленный отрывок – пример языкового абсурда, поскольку он «скроен» из обрывков музыковедческой теории ( развитие увертюры, торжествующий хорал, полифоническая мощь ) и бытовых фраз ( голова старухи запрокидывалась, рот открывался все шире, храп ), описывающих картину, скорее, неприглядную.
Помимо слов, традиционно употребляющихся в переносном значении (нота, гамма, мелодия, камертон и др.), Рубина образно переосмысляет малоизвестные музыкальные термины (знакомые, в основном, специалистам): арпеджио – “последовательное исполнение звуков аккорда” (ит. arpeggio, от arpeggiare – играть на арфе), крещендо – “исполнять, постепенно увеличивая силу звука” (ит. crescendo – усиливая), диминуэндо – “исполнять, постепенно уменьшая силу звука” (ит. diminuendo – уменьшая), глиссандо – “скользящий переход от звука к звуку” (ит. glissando – скользя), каденция – “завершение какого-либо раздела музыкального произведения или вставной номер в каком-либо произведении” (ит. cadenza – окончание), вскрывая тем самым их значительный метафорический потенциал, показывая их возможности в обновлении и обогащении выразительных средств языка: «…В день, когда он столкнулся с ней на Центральном автовокзале в Тель-Авиве, тоже хлестал дождь, первый в этом сезоне. Небо раскатывало басовитые картавые арпед-жио»1. Термин «арпеджио» приобретает в предложении значение “раскаты грома”. Это достаточно точный образ, поскольку именно приемом арпеджио (разложения аккорда) на басовых октавах пианисты имитируют раскатистое звучание грома.
Метафорическое употребление терминов как бы возвращает их первоначальное, исконное значение, отсеивая терминологические «наслоения»: «Нож мелко-мелко шинковал податливую плоть, нежно переворачивал с боку на бок, совершал какие-то глиссандо вдоль и поперек куска…»2; «Но ходила в туфельках без каблуков, что говорило о её серьезных намерениях относительно тебя. Мне тогда казалось, у вас все идет на крещендо к торжественной коде…»3; «Любовный рев за тонкой стенкой соседнего номера шел на « крещендо » – незримая баба выслуживалась»4; «И я уныло повлеклась на встречу с людьми, которые вскоре, с окончанием моей каденции, все станут призраками в моей жизни»5.
Иногда писатель употребляет термины в их основном – латинском – написании (по принятой музыкальной традиции): «Тогда она вскочила, опрокинув стул, и сильным аккордом на fortissimo “от плеча” швырнула девушку на пол»6. Fortissimo – термин, обозначающий очень сильный и громкий звук, а в приведенном примере он обозначает значительную силу, с которой совершается действие. Glissando – плавное скольжение от одного звука к другому – употребляется в значении быстрого незаметного движения пальцев по предмету: Просунув руку между толстыми железными прутьями, он как-то – glissando – скользнул пальцами по амбарному замку, и тот распался и с грохотом обрушился на пол»7.
Для описания ослабления каких-либо действий, процессов Рубина использует термин « diminuendo » (постепенное уменьшение силы звука): «Тот еще подержал ситуацию до вечера в нагретом состоянии, потом смилостивился и показал дирижерской палочкой diminuendo »8.
Многообразие музыкальных терминов, подвергающихся метафоризации в прозе Дины Рубиной, говорит не только о её «языковых пристрастиях» и особом типе мышления. Вывод напрашивается более широкий: вовлечение в речевое пространство музыкальных терминов, в том числе и специальных, обогащает метафорическую систему языка в целом, выявляет новые возможности образного переосмысления лексических единиц и, в частности терминов.
Список литературы Музыкальная метафора в художественном мире Дины Рубиной
- Дмитриев Д. Дина Рубина. Высокая вода венецианцев // Знамя. 2002. №3. [Электронный ресурс]. URL: https://magazines.gorky.media/znamia/2002/3/dina-rubina-vysokaya-voda-veneczianczev.html (дата обращения: 04.06.2021).
- Клочкова Ю.В. Диалоги с музыкой в произведениях Дины Рубиной // Дергачёвские чтения - 2014: Русская литература: типы художественного сознания и диалог культурно-национальных традиций. Екатеринбург: УФУ, 2015. С. 122-125.
- Рубина Д.И. «Ни жеста. Ни слова.»: интервью [Электронный ресурс] // Вопросы литературы. 1999. №5 6. URL: http://www.dinarubina.com/interview/%20nizhestani-slova.html (дата обращения: 23.12.2020).
- Козинец С.Б., Соломатин К.А. Метафоризация музыкальных терминов в русском языке // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 6 (2). С. 276-279.
- Иванова М.В. От ломоносовского ритора к «образу автора» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2005. № 7. С. 156-161.
- Москвин В.П. Русская метафора: очерк семиотической теории. Москва: Ленанд, 2006. 184 с.
- Хохонин Д.Е. Лексика семантической сферы «музыка» в метафорическом использовании: дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2014. 159 с.
- Скляревская Г.Н. Метафора в системе языка. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2004. 166 с.
- Музыка: энциклопедия / под ред. Г.В. Келдыш. Москва: Большая рос. энцикл., 2003. 672 с.
- Петрова З.Ю. Регулярная метафорическая многозначность в русском языке как проявление системности метафоры // Проблемы структурной лингвистики 19851987. Москва: Прогресс, 1989. С. 120-133.
- Козинец С.Б. Семантические трансформации в метафорическом поле «музыка» // Активные процессы в современном русском языке: национальное и интернациональное. Москва: Флинта, 2021. С. 282-292.