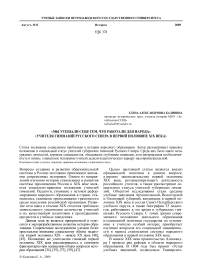«Мы утешали себя тем, что работали для народа» (учителя гимназий русского Севера в первой половине XIX века)
Автор: Калинина Елена Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8 (102), 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена социальным проблемам в истории народного образования. Автор рассматривает правовое положение и социальный статус учителей губернских гимназий Русского Севера. Среди них было много незаурядных личностей, хороших специалистов, обладавших глубокими знаниями, хотя материальная необеспеченность и низкое социальное положение учителя делали педагогическую карьеру малопривлекательной.
Учителя, гимназия, правовое положение, социальный статус
Короткий адрес: https://sciup.org/14749618
IDR: 14749618 | УДК: 378
Текст научной статьи «Мы утешали себя тем, что работали для народа» (учителя гимназий русского Севера в первой половине XIX века)
Вопросы создания и развития образовательной системы в России постоянно привлекают внимание современных историков. Одним из направлений изучения истории становления и развития системы просвещения России в XIX веке является социально-правовое положение учителей гимназий. Педагоги, стоявшие у истоков реформирования народного образования в стране, становились главными проводниками грамотности среди населения российской провинции. Развитие сети школ в течение XIX столетия требовало значительного увеличения количества учителей и их качественной подготовки к преподаванию предметов в учебных заведениях.
Данная тема не является приоритетной и относится к малоразработанным сюжетам истории образования. Современные исследователи уделяли более пристальное внимание социальному облику педагогов второй половины XIX – начала ХХ века [48], [45]. Положение же учительства гимназий первой половины XIX века рассматривалось в основном фрагментарно при освещении общих вопросов истории образования [34], [35], [37], [39], [47].
Целью настоящей статьи является анализ официальной политики в данном вопросе, а именно законодательства первой половины XIX века, регламентирующего деятельность российского учителя, а также рассмотрение социального статуса учителей губернских гимназий. Объектом исследования стали средние учебные заведения Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний, входивших в первой половине XIX века в состав Санкт-Петербургского учебного округа, а также биографии 23 педагогов, работавших в это время в губернских гимназиях Русского Севера. С точки зрения современного положения школьного образования и социальной политики государства по отношению к учителю особый интерес приобретает изучение вопросов его социальной защищенности в период становления системы народного образования в первой половине XIX века.
В начале XIX века правительство Александра I провело ряд реформ в области народного образования. В 1804 году был принят «Устав учебных заведений, подведомых Университе-
там», где была представлена система общеобразовательных школ, включающая приходские училища, уездные училища, гимназии, университеты.
Отсутствие квалифицированных педагогических кадров было одной из главных проблем при организации гимназий и уездных училищ. Основными учебными заведениями, готовившими кадры для провинциальных училищ, были духовные семинарии, многие выпускники которых становились педагогами в губернских и уездных школах. Привлекались к занятию учительских должностей и лица, окончившие главные народные училища в губернских городах и малые народные училища – в уездных, существовавшие в России до 1803 года. В начале образовательной реформы было принято решение готовить преподавательские кадры для главных народных училищ (впоследствии названных гимназиями) в университетах. В 1803 году на базе Учительской семинарии в Петербурге была открыта Учительская гимназия, в 1804 году она была преобразована в Педагогический институт, а в 1819-м – в Императорский Санкт-Петербургский университет. Именно здесь в первой трети XIX века сложился основной центр подготовки учителей не только для училищ столичного учебного округа, но и для гимназий и училищ других округов.
Приступая к должности, учителя в исследуемый нами период должны были выполнять обязанности, определенные в «Уставе учебных заведений, подведомых Университетам» 1804 года и в «Уставе учебных заведений» 1828 года. По «Уставу» 1804 года, преподаватели и начальники губернских и уездных училищ зачислялись на государственную службу, для них были разработаны специальные мундиры, и новоиспеченным чиновникам присвоили соответствующие чины по «Табели о рангах». Старшие учителя гимназий состояли в 9-м, младшие – в 12-м классе, педагоги уездных училищ соответствовали 12-му классу. В «Уставе» 1828 года «права государственной службы» были присвоены учителям приходских училищ.
Значительное место в «Уставах» 1804 и 1828 годов уделялось обязанностям учителей и их нравственному облику. В 22 статьях главы II «Устава» 1804 года определялись не только обязанности учителей всех ступеней школ в преподавании предметов, но и моральные основы личности учителя. Особое значение уделялось дисциплине учителя во время его работы. «Учителя должны с точностью наблюдать учебные часы <…> никогда не пропускать классов, не уведомя о том заблаговременно» училищное начальство. А в случае отсутствия учителя (пропуски уроков разрешались только по уважительной причине) необходимо было заменять преподавателя другими учителями или «с более успевшим учеником повторять с прочими прежние уроки» [18; ст. 309]. Свой предмет учитель должен был вести строго по программе. В статье 36 указывалось, что он «не должен вмешивать ничего постороннего и до учебных предметов некасающего» [18; ст. 310]. Статьи «Устава» определяли облик учителя с точки зрения морали и нравственности. «Учитель должен быть терпеливым и исправным и полагаться на свою прилежность и порядочные правила» (ст. 40), «кротость, ласковость, терпение и внимание к их (учащихся. – Е. К.) пользе, сердцу родителей свойственные» (ст. 42). Отметим, что в «Уставе учебных заведений» 1828 года количество статей, посвященных моральным и нравственным основам личности учителя, значительно увеличилось. Статьи этого устава предписывали благонравное поведение наставникам во время службы в училище и в быту. Так, для определения на должность учителя необходимо было не только доказывать на специальных испытаниях право на преподавание учебных предметов, но и «предоставлять достоверные сведения в беспорочном поведении» [19; ст 162]. Училищное начальство обязано было знать «об их (учителях. – Е. К.) нравственных качествах и поведении» [19; ст. 155]. Учителя же, в свою очередь, должны были повиноваться училищному начальству и в точности выполнять все его распоряжения и предписания. В отношении к учащимся школ преподавателям необходимо было следить «за нравственностью воспитанников» (ст. 77), «действовать на юные души воспитанников, служа для них примером благонравия, трудолюбия, точного, ревностного исполнения долга и строгого наблюдения не только правил чести, но и необходимых приличий общежития» [19; ст. 180]. Таким образом, учитель своим нравственным обликом и достойным поведением в обществе должен был выполнять свою главную обязанность – «образовывать умы и сердца вверенных ему юношей» [19; ст. 180].
В начале XIX века в учебных заведениях Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний служили учителями выпускники Новгородской, Архангельской, Тверской, Московской и других духовных семинарий и местных главных народных училищ. Так, в Архангельском Главном народном училище (до приезда первых выпускников Петербургского Педагогического института в 1808 году) учителями служили выпускники Тверской и Архангельской духовных семинарий, а также Архангельского Главного народного училища. Только начальник Архангельской дирекции В. Л. Сильвестров окончил Учительскую гимназию в Петербурге. В губернских учебных заведениях Петрозаводска и Вологды трудились выпускники Архангельской, Новгородской и Владимирской духовных семинарий. Выпускники Петербургской учительской семинарии стали преподавать в северных провинциальных училищах с конца XIX века, они и составили основные педагогические кадры учебных заведений северных провинций в это время. В 1802 году в Главное народное училище Петрозаводска прибыли П. А Лопа-тинский, Г. К. Ореховский и М. А. Копосов, в Вологду в 1804 году – А. Яхонтов и В. Двинский.
Оказавшись вдали от центра, в глухом провинциальном городе, выпускники сталкивались с большими трудностями не только в профессиональной деятельности, но и в быту. Приезжая на «учительские места», молодые учителя обычно сталкивались с проблемой нехватки учебных пособий, теоретических и практических руководств по преподаванию учебных предметов, кроме того, в классах-кабинетах было незначительное количество наглядных таблиц, карт, приборов, остро стояла проблема с учебниками и письменными принадлежностями. В таком положении находилось большинство главных и малых народных училищ на окраинах империи.
В России преобразование Главных народных училищ в гимназии нового типа началось после издания «Устава» 1804 года, но велось далеко не энергично и продолжалось почти 20 лет. В 1808 году в Санкт-Петербургском уездном округе из пяти губернских городов лишь в трех существовали гимназии, в Казанском – из 13 городов только в 5, в Харьковском из 11 – 8, в Виленском из 8 – 6. Только в Московском учебном округе дело по открытию гимназий обстояло лучше – во всех 10 городах округа были открыты средние школы [38; 179, 189]. В северных провинциях России одной из первых была преобразована Вологодская губернская гимназия (1804 г.), Олонецкая – в 1808 году, позже всех появилась Архангельская – в 1811 году.
Главные народные училища северных губерний в то время не располагали никакой материальной базой. По сообщению директора Олонецких народных училищ С. А. Ушакова попечителю Санкт-Петербургского учебного округа Н. Н. Новосильцеву в 1803 году, в училище «никаких физических и математических пособий не находится, равно и натурального кабинета. В библиотеке же имеется одно присланное от господина тайного советника Н. Н. Новосильцева периодическое издание о средствах народного просвещения» (имеется в виду «Периодическое сочинение об успехах народного просвещения», издававшееся с 1803 года) [20]. В таких нелегких условиях надо было начинать службу молодым учителям.
К трудностям преподавания добавлялась неустроенность быта. Чаще всего учителям отводились квартиры прямо в училищных домах. Иногда молодых учителей селили в наемные квартиры за небольшую плату. Обычно это были комнаты в домах городских жителей. А. Е. Крылов, директор Олонецких училищ, сообщал Н. Н. Новосильцеву в 1804 году, что учителя «помещаются сами в чердаках, весьма тесных и холодных, подверженных зимой угару, которые состоят из двух покоев, даже и кухни не имеют» [21]. Значительно позже, после ремонта здания училища, учителя селились в здании Олонецкой гимназии, где занимали боковые комнаты. Молодых педагогов, направленных из Петербурга в Архангельскую гимназию в 1808
году, – К. В. Васильева и В. Баранова – по распоряжению губернатора разместили на частных квартирах за свой счет [22]. Тяготила приезжих и дороговизна жизни на северной окраине России. «Край пустой, и все ужасно дорого, и такие квартиры можно дешевле нанять в Санкт-Петербурге», – писал из Петрозаводска один из бывших студентов [1].
Тяжелые условия службы, неустроенность быта, суровый климат Российской империи оказывали негативное влияние на здоровье 20–22-летних выпускников. Несомненно, большое значение имело и психологическое состояние учителя, заброшенного в глухой край. Оказаться в провинциальном городе после нескольких лет, проведенных в столице, наполненных интенсивной интеллектуальной деятельностью и яркой «столичной» жизнью, было тягостно. Привыкнуть к этому было трудно, многие из приехавших годами испытывали дискомфорт. Не случайно количество смертей учителей в молодом возрасте было невероятно высоким по округу в целом. Пример тому – судьбы студентов, распределенных в Олонецкую гимназию в 1808 году. Многие из них заболевали и не доживали до пенсионного возраста. Только один из них, Н. О. Куняев, вышел на пенсию по выслуге 25 лет в 1834 году, трое (И. Д. Егорьевский, П. С. Соболев и И. Д. Яко-новский) скончались в возрасте 26–36 лет.
Важно заметить, что судьбы выпускников в первой половине XIX века были под пристальным вниманием Конференции Педагогического института, а позже – Правления Петербургского университета. В местных архивах сохранились донесения директоров народных училищ об учителях, их материальном положении, справочные сведения местных врачей о состоянии их здоровья, сообщения о причинах смерти. Просьбы учителей о материальной помощи через директоров училищ рассматривались в Совете университета, а затем – в канцелярии попечителя учебного округа. Так, в 1826 году от Совета Императорского университета в адрес попечителя учебного округа К. М. Бороздина поступило представление о выдаче денежного пособия учителям Архангельской гимназии К. В. Васильеву, Е. П. Смирнову, Л. С. Левитскому и И. А. Никольскому в связи с их тяжелым материальным положением [17].
В учебных «Уставах» кроме непосредственных обязанностей учителей по преподаванию указывались и «посторонние», то есть обязанности, которые должны были выполняться учителем без дополнительной оплаты. «Сей труд относится к числу посторонних обязанностей Учителей, за которые они имеют ожидать особенной награды, если оный достоин будет уважения», – говорилось в «Уставе» 1804 года [18; ст. 315]. В статье 51 «Устава» учителям гимназий предписывалось «вести записку заведенным и впредь заводимым училищам, как в губернском, так и в уездных городах и других окрест- ных местах Губернии» [18; 314]. В этих исторических заметках необходимо было указывать даты открытия училищ, сведения о министре народного просвещения, о попечителе, директоре, смотрителях и учителях. Они должны были составляться ежегодно и посылаться в университет.
К составлению таких исторических описаний обычно привлекали учителей истории. Так, записки об истории учебных заведений в Олонецкой губернии по поручению директора А. Е. Крылова, как сообщал последний в 1806 году в своем донесении Н. Н. Новосильцеву, вел учитель всемирной и естественной истории: «П. А. Лопатинский ведет записку заведенным и впредь заводимым училищам в Олонецкой губернии» [21]. Его труд был опубликован в газете «Олонецкие губернские ведомости» в 1889 году, вероятно, по сохранившейся рукописи. В Национальном архиве Республики Карелия находится «Историко-статистическое описание состояния народных училищ Олонецкой губернии со времени учреждения оных», составленное в 1834 году неизвестным автором [2]. По-видимому, это был А. С. Бельзовский, так как именно он преподавал в этот момент в Олонецкой гимназии историю и статистику.
«Уставы» предписывали учителям сверх преподавания уроков дополнительные занятия с учениками, например, учителя должны были ходить с учениками за город на экскурсии и «показывать им в сих прогулках различные роды мельниц, гидравлических машин и других механических предметов, если оные находятся в окрестностях того места, где состоит гимназия» [18; ст. 307]. Во время прогулок вместе с учениками предписывалось собирать травы, различные виды грунтов, камней и объяснять их свойства и отличительные признаки. В Петрозаводске такие экскурсии в 1811 году проводил учитель П. С. Соболев. Вместе с учащимися гимназии им был собран гербарий, который пополнил коллекцию учебных пособий Петербургского педагогического института. «В Санкт-Петербургский педагогический институт отправлен собранный трудами учителя Петрозаводской гимназии Соболева гербарий», – сообщал в 1814 году ведомственный журнал [42; 186].
Учителям физики и математики предписывалось вести метеорологические, топографические и статистические записки. Такие наблюдения в Вологодской гимназии вел А. Мудров, в Олонецкой – М. И. Троицкий. Многие учителя без вознаграждения выполняли обязанности библиотекарей в училищных библиотеках.
Нехватка учебных пособий сказывалась на качестве и методах преподавания. Эта проблема могла быть решена только силами самих учителей, так как Министерство народного просвещения в начале XIX века еще не располагало необходимым списком учебных пособий по всем предметам. Одни учителя довольствовались тем немногим, что было в училищной библиотеке, другие старались сами написать учебники по предметам, используя собственный опыт преподавания и ранее изданные пособия. По сообщениям визитаторов и директоров народных училищ, такие рукописные методические пособия составляли учителя Олонецкой гимназии И. Ф. Яконовский, Н. О. Куняев, П. С. Соболев, М. И. Троицкий. За неимением учебников и методических руководств обучение велось по «запискам и собственными прибавлениям, замечаниям и объяснениям» [15]. Частные методики и способы преподавания имели педагоги и в других гимназиях Санкт-Петербургского учебного округа.
Для улучшения качества преподавания учителя предлагали внести изменения в программу изучения отдельных предметов. Н. Н. Поздняков, учитель Олонецкой гимназии, в 1837 году сделал предложение попечителю Петербургского учебного округа по изменению программы преподавания французского языка в губернских гимназиях. «Необходимо начать в гимназии обучение французского языка, по крайней мере, с третьего класса», – писал он, предлагая для этого уменьшить количество часов в неделю, отводимых на чистописание и рисование в третьем классе гимназии [3]. Интересен ответ попечителя на предложение: согласен, но без дополнительной платы учителю. На Совете гимназии решили: «…утвердить обучение французскому языку в Олонецкой гимназии с 3-го класса и принять нововведение с 1 августа 1837 г.» [4] Так училищное начальство поощряло инициативу снизу, но оплачивать различные новшества и предложения не собиралось.
Для распространения среди горожан физических знаний учитель гимназии в г. Петрозаводске Э. А. Мудров в ноябре 1840 года разработал программу публичных лекций по физике. Его прошение об официальном разрешении проводить публичные лекции в здании гимназии по субботам было представлено начальству. Оно попало сначала к директору народных училищ Олонецкой губернии М. И. Троицкому, затем к попечителю Санкт-Петербургского учебного округа М. А. Дондукову-Корсакову и министру народного просвещения С. С. Уварову. В результате официальной переписки учителю разрешили проводить лекции по утвержденной министром народного просвещения программе. «Я согласен на дозволение старшему учителю Э. А. Мудрову открыть в г. Петрозаводске публичный курс физики по одному разу в неделе в продолжение нынешнего зимнего времени», – писал С. С. Уваров М. И. Троицкому в декабре 1840 года [24].
В 1840 году министр народного просвещения официально разрешил учителям губернских гимназий и уездных училищ составлять учебные и методические пособия. Такое нововведение было сделано по предложению попечителя Казанского учебного округа, который после обозрения подведомственного округа в 1838 году обратил внимание, что учителя по учебной части ограничивают свои занятия одним преподаванием в классах. Большая часть наставников не следят за развитием науки и «уклоняются от умственной деятельности в возрасте наиболее к тому доступном и способном к науке, преимущественно в практическом их применении, теряют многое...» [25]. По Казанскому учебному округу уже в 1838 году были сделаны соответствующие распоряжения о доставлении попечителю округа «рассуждений об отраслях преподавания или наук». Это могли быть «исследования о лучшем способе преподавания», «критические трактаты» о существующих учебных руководствах, «переводы замечательных статей, этнографические и топографические записки, исторические исследования местных событий, описание древностей, собрание местных поверий и т. п.» [25].
С. С. Уваров предложил попечителю Петербургского учебного округа сделать подобное распоряжение по своему округу. В мае 1840 года директорам народных училищ было предложено представить работы авторов, которые «следят за ходом в ученом мире преподаваемого предмета, стремятся к обогащению науки новыми фактами, занимаются улучшением учебных руководств, методов преподавания или другими учеными и литературными изысканиями» [25]. Необходимо отметить, что для утверждения научный труд учителя должен был пройти ряд инстанций. Вначале автор представлял свой труд директору народных училищ, затем от имени дирекции училищ делалось представление на имя попечителя учебного округа. Далее рукопись попадала на экспертизу к профессорам Петербургского университета, которые составляли отзыв об этом сочинении с указанием положительных и отрицательных качеств работы. Рукопись, как правило, рассматривалась на Совете университета. Если работа признавалась достойной напечатания, то есть утверждалась на Совете и получала одобрение попечителя учебного округа, ее публиковали отдельным изданием с разрешения министра народного просвещения. За свой труд учитель получал гонорар 200 рублей и небольшой процент с продаж. Процедура утверждения таких рукописей занимала около 2 лет. Иногда министерство за неимением средств на издание учебных пособий предлагало другим министерствам и ведомствам издать их. Так, учитель Олонецкой гимназии Э. А. Мудров составил курс коммерческой бухгалтерии, на основании которого Министерство финансов в 1844 году издало учебное пособие «Счетоводство для всех видов и родов торговли» [26]. В Архангельской гимназии И. А. Никольским было издано «Общее обозрение географии для 1 класса». В Вологде учителями гимназии Н. Иваницким составлено учебное руководство к преподаванию логики и риторики, А. Поповым – «Русско-греческий словарь», А. Иваницким – «Собрание арифметических задач с присовокуп- лением полного перечня числительного искусства» [27]. Таким образом, училищное начальство, приобщая учителей гимназий к научной работе, давало им возможность совершенствовать и применять свои знания.
Часто дирекция народных училищ привлекала учителей гимназии к инспекторским поездкам по уездным и приходским училищам губернии. По окончании командировки учителя составляли подробные отчеты о состоянии школ. Такие обозрения по Олонецкой губернии в разное время составляли Г. К. Ореховский, Н. О. Куняев, М. И. Троицкий. Примечательно, например, что И. Муромцев, учитель Вологодской гимназии, после посещения школ в отдаленных селах и деревнях не только составлял отчеты, но и публиковал свои записки в «Вологодских губернских ведомостях» [40]. При посещении училищ, особенно сельских, учителя встречались с местным населением, духовенством и призывали крестьян открывать в деревнях приходские училища. Обозрение совершалось без дополнительной оплаты, и, кроме прогонных денег, визитаторы не получали ничего сверх жалования.
Во время отсутствия директоров народных училищ (по случаю их отпусков, командировок, болезни) исполняющими должность директора училищ назначались старшие учителя гимназий. Например, старшие учителя Олонецкой гимназии М. А. Копосов (в 1806–1807 годах), Н. О. Куняев (в 1813–1814 годах), Архангельской – И. А. Никольский (в 1832–1833 годах) замещали начальников училищных дирекций. Нередко педагогов привлекали к исполнению общественных поручений в качестве членов различных общественных организаций. Так, в Петрозаводске М. И. Троицкий и Э. А. Мудров являлись членами тюремного комитета и были отмечены за усердную работу в этом комитете «Всемилостивейшим удовольствием императора» [26]. В Вологде учитель гимназии Н. И. Левицкий был членом цензурного комитета «Вологодских губернских ведомостей».
Нравственность и поведение учителя, как в службе, так и в быту, становились особым предметом внимания столичного училищного начальства. Обозревая учебные заведения округа, визитаторы обязаны были наблюдать за нравственным обликом наставников и в своих отчетах об осмотре училищ доносить о поведении, настроении, образе жизни педагогов. Такие представления визитаторов (профессоров университета) и попечителей учебных округов на имя министра народного просвещения были важным фактором, определявшим возможности карьерного роста: перехода на более престижное место, получения следующего чина или должности, награды за выслугу лет, прибавки к жалованию. Так, попечитель Петербургского учебного округа С. С. Уваров в своем докладе министру народного просвещения А. К. Разумовскому по результатам ревизии профессора Императорского университета П. Д. Лодия Олонецкой, Архан- гельской и Вологодской дирекций в 1811 году сообщал, что учителя всех этих гимназий «в полной мере признательны к правительству и начальству за образование свое» [16]. А в 1834 году по итогам такой же ревизии в отчете попечителя учебного округа М. А. Дондукова-Корсакова Николаю I отмечалось: «…нравственное направление наставников и юношества подает самые утешительные надежды <…> педагоги гимназий пользуются уважением и заслуживают отличную похвалу» [14].
Учитель был под постоянным наблюдением инспектора и директора гимназии, смотрителя училищ, чиновников местной администрации (земских исправников, городничего, губернатора), родителей учеников. Директора в своих годовых отчетах по ведомству, составляя списки учителей гимназий и уездных училищ, давали характеристику поведения каждого. Представления директоров и смотрителей училищ о педагогах изобилуют свидетельствами о «благонравном» поведении. Так, об учителе Н. О. Куняеве директор Олонецких училищ С. А. Башинский в 1818 году писал: «Прилежен и довольно успешен, поведения благородного и отличного» [28]. В ходатайстве о награждении орденами Св. Анны III степени М. И. Троицкого и М. А. Копосова в 1832 году указывалось: учителя прилежны, ответственны, «благородного образа мыслей» [6].
Но были и другие примеры, когда поведение учителей характеризовалось как недостойное, неблаговидное, при этом чаще всего имелось в виду пьянство. Интересен тот факт, что сигналы о «неблагонравном» поведении учителя поступали в то время, когда учитель находился уже в зрелом возрасте. Упоминания «о периодической болезни как последствии временной невоздержанности» [7] учителей появлялись в отчетах директоров народных училищ и смотрителей училищ всех дирекций столичного учебного округа. Одни из таких нерадивых учителей были молодыми специалистами, не выдержавшими трудностей быта на Севере, другие – опытными и уважаемыми учителями, которые неоднократно получали благодарности по службе. Одну из причин столь недостойного в учительской среде порока указал в своем заявлении учитель П. А. Лопатинский в 1808 году, увольняясь от должности после 6-летнего срока службы в Петрозаводском главном народном училище. Он, в частности, писал: «Путь, который предпоказан учителям к приобретению высших университетских званий, для меня кажется неприступным. В продолжение более нежели пяти лет не имею я так как и теперь ни частных, ни училищных пособий к усовершенствованию своих знаний. Сверх того, напрасно ожидание любых выгод, назначенных учителям гимназии» [29]. Таким образом, талантливые педагоги, которые способны были многое сделать не только на педагогическом поприще, но и в науке, натыкались на серьезные препятствия. Трудно было тем, кто по- нимал и оценивал свои способности по достоинству, но не мог применить их на практике. Именно эта группа педагогов подвергалась опасности спиться или погибнуть в далекой провинции, так и не реализовав себя в полной мере.
Контроль училищного начальства над учителями затрагивал и их личную жизнь. Учителя обязаны были по закону, так как они относились к чиновникам, испрашивать у директора народных училищ разрешения на женитьбу. В Национальном архиве Республики Карелия сохранились прошения А. И. Мещерского 1834 года на второй брак с воспитанницей Императорского Санкт-Петербургского воспитательного дома Настасьей Ивановой. «Я вдов, – писал А. И. Мещерский в прошении, – и со стороны училищной к занятию такого брака препятствий не имею» [8]. Нами также найдено прошение Э. А. Мудрова 1837 года на брак с дочерью коллежского асессора Василия Аберхалтина Любовью [9].
Для поездки во время летних каникул домой к родителям или в Санкт-Петербург необходимо было также просить позволения у директора училищ, который о перемещении учителя в свою очередь докладывал попечителю учебного округа и составлял приказ о его увольнении в отпуск во время летних вакаций. Такие «увольнения» в разные годы учительской службы получили Н. О. Куняев, А. С. Бельзовский, К. В. Баранко-ев, И. И. Анциферов и другие. Перемещение учителя из одного училища в другое также было под контролем не только губернского училищного начальства, но и Совета университета. Так в 1834 году решился перевод Н. В. Талицкого из Каргопольского уездного училища в Олонецкую гимназию на преподавание географии и российской грамматики [10].
Приезжая на новое место, учителя по долгу службы вынуждены были контактировать со многими жителями города. Находясь в социальном пространстве провинциального города, учителю приходилось выстраивать взаимоотношения сразу на нескольких уровнях. Это были не только ученики гимназий и училищ, коллеги по службе и училищное начальство, но и родители учащихся, представители губернской администрации. Надо отметить, что в архивных документах сведений о конфликтных ситуациях, участниками которых становились учителя, немного. Ситуации конфликта с родителями учеников возникали при высказывании ими недовольства качеством преподавания предметов. Некоторые родители обвиняли учителей в недостаточном знании предмета. Иногда замечания педагогам выражали инспектора гимназий по поводу их «нетрезвого поведения».
Особого внимания требует рассмотрение вопроса о семейном положении учителей, служивших в провинциальных губернских гимназиях. Приезжая на новое место службы, молодые педагоги достаточно быстро вступали в брак. Обычно их женами становились дочери чинов- ников или учителей. Все учительские семейства были многочисленны. Например, в семье учителя Олонецкой гимназии М. А. Копосова было десять детей, в семьях Н. В. Талицкого, А. И. Мещерского, В . Л. Сильвестрова – по семь, у Н. О. Ку-няева – четверо. Все мальчики из семей учителей после окончания городских уездных училищ обучались в гимназии. Во время учебы учительские дети всегда характеризовались положительно. Все они прилежно учились, имели награды за отличные успехи. Многие из них были казенными стипендиатами в гимназии. Это давало право на продолжение обучения в университете или занятие учительской должности в уездных или приходских училищах. Так дети учителей после окончания Олонецкой гимназии приступали к работе в качестве учителей не только в губернской гимназии, но и в уездных и приходских училищах. Например, сын Н. О. Куняева Павел был преподавателем в Олонецкой гимназии, а сыновья И. Д. Воскресенского Николай и Павел Воскресенские работали в Вытегорском уездном и Петрозаводском приходском училищах соответственно. Важно заметить, что учителя заботились и об образовании своих дочерей. Многие из них обучались в приходских училищах или в частных школах, открытых в городах Олонецкой, Архангельской и Вологодской губерний с 1834 года.
Уже в первой половине XIX века постепенно стали складываться учительские династии. Это Копосовы из Олонецкой губернии, Фортунатовы, Протопоповы и Иваницкие из Вологодской губернии. Одним из ярких примеров учительской династии и верности делу просвещения может служить семейство М. А. Копосова. Все шесть сыновей Михаила Андреевича после окончания Олонецкой гимназии продолжили дело отца и стали учителями. Старший сын Павел служил учителем в Петрозаводском приходском училище, Иван был учителем в Олонецкой гимназии. Владимир, Александр, Петр в разное время стали студентами Петербургского университета, вернулись после его окончания домой в г. Петрозаводск, служили в гимназии. Затем Александр и Петр уехали в Санкт-Петербург, где Александр Копосов служил учителем в 1-й Санкт-Петербургской гимназии, а Петр Копосов стал директором 4-й Санкт-Петербургской гимназии. Николай Копосов окончил Олонецкую гимназию с серебряной медалью и «поступил в Императорскую Санкт-Петербургскую Медико-хирургическую Академию в число казеннокоштных студентов» [11].
Как правило, учительские семьи жили бедно. Жалования учителя не хватало на содержание многочисленного семейства. Для увеличения жалования учителя брали дополнительную нагрузку, совмещая несколько вакансий. Но чрезмерная загруженность сказывалась на их здоровье. Как отмечает К. М. Петров в своем историческом очерке об Олонецкой гимназии,
«беспрестанные и бессменные занятия делаются тягостными и изнуряют здоровье» [43; 10]. В архивных документах сохранились многочисленные ходатайства жен учителей в дирекцию народных училищ о материальной помощи на лечение детей, на погребение членов семьи и так далее. В 1833 году в семье М. А. Копосова заболел сын Иван, ставший учителем гимназии, для его лечения необходимы были средства. Семья учителя их не имела. Директор народных училищ обратился к попечителю Петербургского учебного округа с прошением о выделении денег на лечение, в котором писал: «…отец его обременен многочисленным семейством, при ограниченном состоянии не может составить ему никаких способов к исцелению» [12]. Средств на лечение Ивана Копосова выделено не было, ему пришлось по состоянию здоровья оставить учительскую службу, а в 1834 году он скончался.
Нередко в семьях учителей не было даже денег на похороны. Дирекции народных училищ такую помощь всегда оказывали. Так, после смерти П. С. Соболева в 1817 году директор Олонецких народных училищ С. А. Башинский сообщал в своем донесении попечителю учебного округа С. С. Уварову, что «приняв в уважение бедность оставшейся после него жены его Матрены Соболевой выдано на погребение мужа 75 руб.» [30]. Смерть учителя, не выслужившего пенсию, обрекала его многодетную семью на нищенское существование. Материальная помощь вдовам таких учителей по закону была единовременной – в размере годового жалования мужа или того меньше. Картину бедственного положения учителей провинциальных гимназий иллюстрируют воспоминания и дневники, составленные визитаторами и бывшими учащимися гимназий. А. В. Никитенко, профессор Петербургского университета, посетивший с ревизией учебные заведения Санкт-Петербургского учебного округа в 1834 году, увидев тяжелое положение учительства, записал в своем дневнике: «Участь учителей незавидная. Общество смотрело на них холодно. Никто их не поощрял, а вознаграждения едва хватало на дневное пропитание» [41; 60]. Неслучайно в периодической печати в середине XIX века стали появляться заметки, авторы которых говорили о необходимости улучшения материального положения учителей. В 1868 году М. П. Погодин в своих школьных воспоминаниях предлагал обеспечить учителей государственным жильем и позволить им «иметь нахлебников», то есть пансионеров – учеников школ, которые за определенную плату будут проживать в домах учителей [44; 629]. Таким образом, материальная необеспеченность и низкое социальное положение учителя делали педагогическую карьеру для молодых людей непривлекательной и заставляли искать другой род службы. Многие называли труд учителя «неблагодарным». Однако официальные оценки положения учительства были более оптимистичны.
Так, член Министерства народного просвещения А. С. Воронов, подводя итоги учебной реформы 1804 года, отмечал в 1828 году, что в начале XIX века в России появилось «новое поколение наставников, облагороженных, обеспеченных в жизни» [33; 102]. Кроме всего вышесказанного следует иметь в виду и еще одно обстоятельство, влиявшее на качество учительского контингента в северных губерниях: Олонецкая губерния рассматривалась училищным начальством не только как место службы выпускников университета, но и как место для исправления нерадивых студентов и учителей. В мае 1812 году студенты Педагогического института в Петербурге Александр Розанов и Петр Беликов были наказаны за «предосудительные проступки» и отправлены в Олонецкую губернию «на исправление». Их проступок состоял в том, что вместо посещения Щукиного двора, куда они отпросились за покупками, студенты побывали у своего друга – офицера Семеновского полка, «откуда возвращались пьяные и попались навстречу неизвестному ремесленнику-немцу», который провожал даму [31]. По словам немца, А. Розанов и П. Беликов сорвали с дамы платок, после чего он закричал «Караул!». На крик подоспел дежуривший караул.
О неблаговидном по ступке А. Розанова и П. Беликова стало известно не только Конференции института, но и попечителю Санкт-Петербургского учебного округа С. С. Уварову и министру народного просвещения А. К. Разумовскому. Высшим учебным начальством было предложено наказать студентов за «худой» поступок «временным удалением из Института в Олонецкую губернию на исправление с предложением тамошнему директору, чтоб строжайше наблюдал за ними» [32]. В Национальном архиве Республики Карелия сохранились ежемесячные донесения директора народных училищ Олонецкой губернии Н. П. Ушакова о благонравном поведении этих студентов, ведомости прихода и расхода их годового содержания (по 200 рублей на каждого).
На такое же «исправление» в августе 1834 года был направлен бывший выпускник Петербургского университета, учитель Подольской гимназии А. И. Мещерский, который был уволен из гимназии по предписанию попечителя Харьковского учебного округа «за нетрезвое поведение» [13]. За А. И. Мещерским, назначенным учителем Олонецкой гимназии, был установлен надзор со стороны директора народных училищ М. И. Троицкого. Каждые два месяца М. И. Троицкий направлял попечителю Петербургского учебного округа донесения о поведении учителя. Но А. И. Мещерский только первые полгода вел себя достойно, а затем продолжил нетрезвый образ жизни, о чем незамедлительно было сообщено попечителю учебного округа. Несмотря на все прошения А. И. Мещерского «о пощаде многодетного семейства» (в семье было семеро детей), его уволили из училищного ведомства в 1835 году [13].
Таким образом, среди учителей выделялось не сколько типов. Один из них был представлен молодыми общественно активными учителями-тружениками, которые работали в провинциальных гимназиях в течение 30–35 лет, причем часто на одном и том же месте. Тем, кто оставался по истечении обязательного 6-летнего срока службы и продолжал работу в гимназиях, приходилось преодолевать ежедневные бытовые трудно сти провинциальной жизни. Приезжая по распределению на окраины России, они достаточно быстро устраивали там свою семейную жизнь. Обычно все дети больших учительских семей обучались в тех же училищах, где работали их отцы, получая возможность продолжить свое обучение в Петербурге, став казенными стипендиатами университета и восстановленного в 1828 году Главного Педагогического института, существовавшего до 1858 года. Несмотря на небольшое жалование, трудности быта, неустроенность жизни, такие учителя-труженики «занимались со всей своей энергией с детками, но в результате все-таки оставались в голоде, нищете и безотрадном положении» [36; 300].
Значительная часть учителей не выдерживала трудностей провинциальной жизни и покидала училища через 6 лет работы. Одни из них оставались в тех же городах и переходили на работу в другие ведомства, другие уезжали на более «выгодные» места поближе к столице или к месту жительства родителей. «Молодой идеализм новичка-учителя через 5 лет проходил безвозвратно, он начинал проникаться апатией к своему делу и мечтал о другом месте, как о “манне небесной”» [36; 300].
Была еще одна группа учителей, которая не находила возможности реализации своих способностей, не видела перспектив в профессиональной деятельности учителя. Про таких педагогов бывшие гимназисты говорили: «…люди ограниченных сведений. Учителя не следят за развитием своего предмета и не находят в этом никакой физической потребности» [46; 245]. Они постепенно входили в состояние депрессии, свои педагогические обязанности выполняли плохо, спивались, постоянно получая нарекания со стороны училищного начальства, их переводили в дальние от губернского центра уездные училища или совсем увольняли из училищного ведомства.
Среди учителей провинциальных гимназий северных губерний России было много хороших специалистов, обладавших глубокими знаниями, незаурядных личностей, интересы которых не замыкались рамками учительской деятельности. Значительный вклад в развитие народного образования северного края внесли А. Е. Крылов, М. А. Копосов, Э. А. Мудров, Ф. Н. Фортунатов, Н. И. Левитский, В. Л. Сильвестров, И. А. Никольский и многие другие педагоги. Это были люди высокой культуры, страстные поборники своего дела. Несмотря на трудные условия преподавания и быта, тяжелое материальное положение и непонимание идей просвещения обществом, многие педагоги отдавали все свои силы на дело развития образования.
В воспоминаниях бывших гимназистов первой половины XIХ века предстают образы «любимых учителей», которым свойственны увлеченность своим делом, живое движение души, яркость и своеобразие характеров, чуткость к людям, способность понять особенности детства и юности, разделить сомнения, тревоги и помыслы учеников. Главное, что отмечают мемуарные источники в работе педагогов, – побуждение учащихся к самосовершенствованию, воспитание интереса к науке, доверительного и ответственного отношения к научному знанию. Сами учителя, анализируя свой труд на благо просвещения, утверждали, что педагогическая деятельность «привлекала и пробуждала к себе чувство святого почтения. Распространение грамотности казалось делом, стоящим того, чтобы положить на это все силы, лечь костьми! Мы утешали себя тем, что работаем для народа» [36; 302].
Список литературы «Мы утешали себя тем, что работали для народа» (учителя гимназий русского Севера в первой половине XIX века)
- Воронов А.С. Историко-статистическое обозрение учебных заведений Санкт-Петербургского учебного округа с 1775 по 1828 г. СПб., 1849. 294 с.
- Дальман С.В. Развитие системы управления народным образованием в России во второй половине XIX века. СПб.: Нестор, 2007. 296 с.
- Дореволюционная гимназия: содержание и организация обучения. М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. 159 с.
- Записки покойного учителя//Исторический вестник. 1888. № 8. С. 296-337.
- Кандаурова Т.Н. Из истории провинциальной гимназии//Педагогика. 2001. № 3. С. 21-24.
- Князьков С.В., Сербов Н.А. Очерки истории народного образования в России до эпохи Александра II. М.: Польза, 1910. 240 с.
- Михащенко А.Л. Становление и развитие образования в Российской провинции в 1719-1917 гг. Курган: Курганский гос. университет, 2004. 332 с.
- Муромцев И. Сельцо Ковырино//Вологодские губернские ведомости. 1852. № 24.
- Никитенко А. Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетелем был. Записки и дневники. СПб., 1905. Т. 2. 575 с.
- Периодическое сочинение о успехах народного просвещения. 1814. № 38. С. 186-187.
- Петров К.М. Олонецкая гимназия с 1808 по 1831 г. Материалы для истории учебных реформ//ЖМНП. 1874. Кн. 176. С. 1-23.
- Погодин М.П. Школьные воспоминания 1814-1820 гг.//Вестник Европы. 1868. № 7-8. С. 603-630.
- Рыболова Е. О материальном положении учителей гимназии//Учитель. 2003. № 2. С. 80-82.
- Подслушал К.М.//Журнал для воспитания. 1859. № 5. С. 236-245.
- Синицина П.Т. Развитие народного образования на Европейском севере (досоветский период). Архангельск: Поморский педагогический университет им. М. В. Ломоносова, 1996. 142 с.
- Сучков И.В. Социальный и духовный облик учительства России на рубеже XIX-XX веков//Отечественная история. 1995. № 1. С. 62-77.