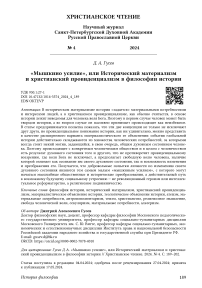«Мышкино усилие», или исторический материализм и христианский провиденциализм в философии истории
Автор: Гусев Д.А.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 4 (111), 2024 года.
Бесплатный доступ
В историческом материализме история «задается» материальными потребностями и интересами людей, а в христианском провиденциализме, как обычно считается, в основе истории лежит неведомая для человека воля Бога. Поэтому в первом случае человек может быть творцом истории, а во втором случае он пассивно принимает происходящее как неизбежное. В статье предпринимается попытка показать, что эти две концепции не только не исключают друг друга, но провиденциальное понимание истории, как ни удивительно, можно представить в качестве расширенного варианта материалистического ее объяснения: события глобальной истории действительно складываются из множества человеческих потребностей, за которыми всегда стоит некий мотив, задающийся, в свою очередь, общим духовным состоянием человека. Поэтому происходящее с конкретным человеческим обществом и в целом с человечеством есть результат духовного состояния того и другого, что не противоречит провиденциальному воззрению, где воля Бога не исключает, а предполагает свободную волю человека, наличие которой означает как осознание им своего духовного состояния, так и возможность изменения и преображения его. Получается, что добровольные попытки личности по изменению своего духовного состояния являются тем самым малым «мышкиным усилием», с которого могут начаться масштабные общественные и исторические преобразования, а действительный путь к возможному будущему социальному устроению - не революционный героизм или интеллектуальное реформаторство, а религиозное подвижничество.
Философия истории, исторический материализм, христианский провиденциализм, материалистическое объяснение истории, теологическое объяснение истории, атеизм, материальные потребности, антроповолюнтаризм, теизм, христианство, религиозное мышление, свобода человеческой воли, секуляризм, альтеризм
Короткий адрес: https://sciup.org/140308463
IDR: 140308463 | УДК: 930.1:27-1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2024_4_189
Текст научной статьи «Мышкино усилие», или исторический материализм и христианский провиденциализм в философии истории
Среди множества вариантов философского осмысления движущих сил истории, составляющего основную проблематику такого раздела знания, как философия истории , обычно выделяется материалистическое объяснение исторических событий, созданное в смысловых координатах исторического материализма, который, вместе с дополняющим его диалектическим материализмом, образует содержание марксистской философии. Примечательно, что материалистическое объяснение истории признается в качестве плодотворной методологии исторического познания даже его критиками и оппонентами (см. подр.: [Поппер, 2004]). В чем заключается непреходящая притягательность и даже очарование материалистического понимания и объяснения истории, что обусловило его необыкновенную популярность среди множества предложенных в социально-гуманитарной эпистемологии средств и методов исторического познания? (см. подр.: [Гобозов, 2008])
Возможно, одной из причин в данном случае, или даже главной причиной, будет корреспонденция историко-материалистической методологии знаменитому принципу бритвы Оккама, базирующемуся на утверждении о том, что более «успешной» и «правильной» будет та научная теория — в области как естественнонаучного познания, так и социально-гуманитарного, — которой удастся минимумом теоретических средств объяснить максимум имеющихся фактов и явлений. Иначе, именно простое объяснение будет гениальным, т. к. всё гениальное — просто . Возьмемся ли мы утверждать, что материалистическое объяснение истории является простым? Несомненно. Именно поэтому ему трудно отказать в гениальности, а также в эффективности — как социально-гуманитарной методологии (см. подр.: [Кржевов, 2000]).
Простота этого объяснения не просто связана с детерминизмом и редукционизмом, но и во многом им обязана; однако возможно ли отказать данным мировоззренческим установкам в определенной степени корреспонденции как природной, так и социально-гуманитарной реальности и, следовательно, — не признавать за ними никаких теоретико-методологических и эвристических возможностей? Такой вопрос следует признать риторическим. Со знаменитым утверждением К. Маркса о том, что материальный интерес как отдельного человека, так и человеческого сообщества является и существенной движущей силой событий, и основанием для объяснения и понимания их причин, невозможно не согласиться, ведь в данном случае можно говорить не о том, что немецкий мыслитель сделал небывалое антропологическое и социальное открытие, а о том, что он, по сути, заострил философское внимание и социально-экономическую мысль на знаменитом древнеримском юридическом принципе cui prodest (кому выгодно), выведя его далеко за пределы юриспруденции и положив в основание новой социально-философской и исторической методологии (см. подр.: [Мареев, 2011]).
В контексте данного рассуждения, двигаясь обратно — от материалистической модели исторического познания к области правового мышления и юридической практики, возможно утверждать, что фактически любой представитель оперативнорозыскной деятельности, или, если перейти к родовому понятию, — сыщик, является, по умолчанию, материалистом , атеистом и марксистом , потому что для достижения поставленной цели ищет, например, не женщину , хотя часто рекомендуется искать именно ее ( cherchez la femme , фр.), и не происки нечистой силы , хотя во внематериалистическом мировоззрении она вполне обладает несомненным онтологическим статусом, но он ищет в совершенно противоположной вышеназванным направлениям области, а именно — cui prodest: кому это было выгодно , т. е., в соответствии с основной рекомендацией марксистской методологии, ищет некий или чей-то материальный интерес .
Вспомним рассказ А. Конан Дойла «Пестрая лента». Несчастная Элен Стоунер рассказывает Шерлоку Холмсу леденящую ужасом душу историю смерти своей сестры, случившуюся накануне ее замужества, причем эта история действительно кажется принизанной мистицизмом: ночной тихий свист, странное постукивание, жуткий крик сестры и загадочные слова, сказанные ею в последнее мгновение жизни: «Боже мой, Элен!.. Лента! Пестрая лента!» Однако, несмотря на несомненную, как представляется, мистику, присутствующую в истории девушки, сыщик интересуется завещанием ее покойной матери, по которому все ее состояние переходит к их отчиму, однако в случае замужества сестер каждая из них имеет право на 1/3 этого состояния. Таким образом, получается, что Шерлок Холмс фактически раскрыл преступление, заглянув в завещание, или — именно следуя принципу cui prodest. «Если бы обе дочери вышли замуж, — говорит он, — наш красавец получал бы только жалкие крохи. Его доходы значительно уменьшились бы и в том случае, если бы замуж вышла лишь одна из дочерей. Я не напрасно потратил утро, так как получил ясные доказательства, что у отчима были весьма веские основания препятствовать замужеству падчериц».
То же самое находим и в повести А. Конан Дойла «Собака Баскервилей»: семейное предание — проклятие рода Баскервилей, чудовище на болотах, загадочная смерть сэра Чарльза, история, полная мистики... Несмотря на это, Шерлок Холмс интересуется совершенно иным вопросом.
«— Бэрримор получил что-нибудь по завещанию сэра Чарльза? — спросил Холмс.
— И ему и его жене было завещано по пятисот фунтов… Наследство же все отошло сэру Генри.
— А в какой сумме оно выражается?
— Семьсот сорок тысяч фунтов. Сэр Чарльз слыл богатым человеком, но истинные размеры его состояния выяснились только после того, как мы ознакомились с ценными бумагами. Общая сумма наследства подходит к миллиону.
— Боже мой! Действительно, ради такого огромного куша можно начать рискованную игру (курсив наш. — Г. Д.)...».
И здесь, как и в предыдущем случае, возможно утверждать, что загадочная история уже отчасти распутана, а преступление наполовину раскрыто.
Если методологический принцип cui prodest, отличающийся простотой и вполне соответствующий требованиям бритвы Оккама, оказывается столь эффективным и результативным в правовой, например, области, которая, вне сомнений, представляет собой одно из существенных слагаемых общественного устройства и социальной жизни, то почему невозможно предпринять попытку распространить его на все это устройство и на всю эту жизнь, сделав теоретическим подходом к их удовлетворительному и правдоподобному объяснению? По сути, именно такой интеллектуальный ход мы видим в марксистском построении материалистической концепции исторического процесса. Как поспорить с тем, что общественное (социально-экономическое) бытие (совокупность материальных интересов отдельных людей и их сообществ) определяющим образом влияет на общественное сознание, и с тем, что жизнь идей является производным, или надстройкой, над экономическим базисом — производством, распределением, потреблением и обменом материальных благ ? И как поспорить с тем, что человеку, как природному существу, или биологическому организму, несмотря на то, что он, конечно же, не сводится к этой своей составляющей, прежде чем над чем-то думать, познавать мир и самого себя, заниматься творчеством, надо удовлетворять базовые, или начальные, физические потребности в еде, влаге, тепле, жилище, одежде, орудиях или инструментах труда и т. д.? И не о том же ли самом идет речь в знаменитой концепции пирамиды потребностей А. Маслоу, которая отстоит от социального марксистского учения на целое столетие?
Как уже отмечалось, даже крупные критики и непримиримые противники марксизма не могут не признавать корреспондентности и когерентности методологического принципа первичности, или фундаментальности, материальных потребностей, положенного в основание определенной социально-философской концепции. В частности, например, К. Поппер признает, что «Маркс научил нас тому, что развитие идей нельзя понять до конца… если не принимать во внимание условия их возникновения и экономическое положение их создателей» [Поппер, 2004, 284].
Согласно материалистическому объяснению истории, материальные потребности и интересы как каждого отдельного человека, так и любого человеческого сообщества, будучи базисными, складываясь с материальными потребностями и интересами других людей и сообществ, образуют в итоге грандиозный суммарный вектор, который и представляет собой историю человечества с ее определенными, внутренними, автономными, объективными законами, которые господствуют над огромным множеством всех тех, кто фактически бессознательно вызвал их к бытию своей повседневной жизнью и деятельностью, в основе которой лежат в первую очередь наши материальные, или экономические, интересы и потребности.
«Общественные отношения людей, — говорил по этому поводу российский марксист Г. В. Плеханов, — не представляют собой плода их сознательной деятельности. Люди сознательно преследуют свои частные, личные цели. Каждый из них сознательно стремится, положим, к округлению своего состояния, а из совокупности их отдельных действий выходят известные общественные результаты, которых они, может быть, совсем не желали и, наверное, не предвидели» [Плеханов, 1956, 594]. Как не увидеть здесь гегелевскую хитрость разума , которой, однако, была придана в марксизме явно и ярко выраженная социально-материалистическая, экономическая интерпретация? И в данном аспекте тоже, по всей видимости, находит свое выражение знаменитое положение К. Маркса о том, что учение Гегеля в целом верно, за тем только исключением, что оно стоит на голове , и его надо поставить на ноги .
Марксову, если позволительно так выразиться, материальную, или социальноэкономическую, хитрость истории вместо гегелевской хитрости разума возможно представить в виде следующей аналогии. В метрополитене крупного города утром на некоей станции, имеющей один выход в город, из поездов выходят люди и торопятся попасть наверх. При этом, разумеется, никакого общего и сознательного действия или движения они не производят: каждый преследует свою собственную цель — не опоздать, например, на работу или учебу, или встречу и т. д. И вот у эскалатора постепенно собирается плотный людской поток, который все более медленно движется к нему, а с какого-то момента он (поток) начинается почти с середины станции. Каждый человек своим действием, продиктованным, разумеется, его личной потребностью выйти в город (или — материальным интересом ), принял участие в бессознательном, или неосознаваемом, создании этого потока, но, попав в него и находясь в нем, он полностью подчиняется его особенностям, свойствам, характеристикам, параметрам, или — законам , двигаясь теперь только в строгом соответствии с ними: он не может идти, например, быстрее или медленнее, направо или налево, или вообще назад, или стоять на месте, даже если захочет и попытается это сделать. Теперь им созданный вместе с другими людьми поток несет его помимо его воли. В данной аналогии стремление каждого выйти в город и его индивидуальное движение к эскалатору метрополитена есть материальные потребности и интересы каждого человека или группы людей, а плотный людской поток со своими законами движения, которым невольно подчиняется каждый, кто находится в нем, — это и есть история человеческого общества со своими объективными законами, которым невозможно противодействовать.
Другой аналогией будет движение полноводной широкой реки, на многие сотни километров простирающейся по континенту, неспешно и величественно несущей свои воды к морю или океану. Эта река начинается с тысяч маленьких ручейков, собирающихся в большие ручьи, которые, в свою очередь, собираются в множество притоков, а те — в малые и более крупные речушки, речки и реки, которые наконец впадают в эту большую реку и, получается, образуют ее, формируют, задают, создают и т. д. Маленькие ручейки — отдельные индивидуальные действия каждого представителя общества, продиктованные в первую очередь его материальными потребностями и интересами, а большая река, собранная из них, — огромный суммарный вектор истории человечества. Любой маленький ручеек, как маленький векторочек, на фоне, или по сравнению с большой рекой, является величиной, стремящейся к нулю; большая же река по сравнению с маленьким ручейком — почти бесконечность. Ручеек — почти ничто, т. к. его можно запросто направить в другое русло, перегородить, осушить, засыпать и т. д., чего в принципе невозможно сделать с огромной рекой, законы существования которой таковы, что, попав в ее полноводное течение, не можешь полностью не подчиняться ему.
Ключевой идеей марксизма, начинавшегося именно с исторического материализма, является идея познания законов истории и овладения ими , с последующим превращением человека из ее пассивного орудия в активного участника и даже творца. Познание гегелевской хитрости разума возможно, но вот овладение ей, практическое ее использование и направление ее в соответствии с целями и задачами человека и общества, по всей видимости, как минимум проблематично. В то же время, если перевернуть гегелевское учение и поставить его с головы на ноги , то оказывается, что в познании объективных исторических законов нет ничего невозможного, ведь в основании их лежат материальные потребности и интересы людей, доступные и осознанию, и изучению, в силу чего именно научно-социальное исследование экономической сферы жизни общества — производства, потребления, распределения и обмена материальных благ — дает ключ к пониманию и объяснению движущих сил и механизмов исторических событий: познавая законы истории, человек не только освобождается от их слепого и неотвратимого действия, но даже может поставить их себе на службу, подчинить своей воле («Клячу истории загоним», В. В. Маяковский). Именно в возможности преобразования социальной действительности, в том, что «философы различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его», и состоит пафос, очарование, притягательная и вместе с тем соблазнительная сила марксистского учения, обуславливающая его нескончаемый социальнофилософский резонанс . Социализм был когда-то утопией , но теперь он может стать и уже стал наукой , — важная идея К. Маркса и Ф. Энгельса, одна из работ которого, как известно, называется «Развитие социализма от утопии к науке».
Другие, помимо материалистического, объяснения движущих сил истории — это теологическое, идеалистическое, географическое, биологическое, близкое к нему иррационалистическое, позитивистское, или многофакторное. Примечательно, что обычно при перечислении этих объяснений сначала называется теологическое, но — как исторически первое, архаичное и поэтому «наивное» и совершенно «неправдоподобное», давно «преодоленное» в процессе развития социально-философской мысли. Причем таковым его видят и интерпретируют не только сторонники и последователи марксистского материалистического объяснения, но и их критики и оппоненты [Гринин, 2016; Красиков, 2016]. Здесь сделаем существенное замечание относительно того, что, говоря далее о теологическом объяснении истории, будем понимать под ним совокупность идей христианского учения о мире и человеке, т. к. если религия (лат. re-ligare), в дословном переводе термина, — это восстановление утраченной связи, или (в художественном переводе) возвращение блудного сына , то тогда под религией в полном смысле этого слова следует понимать христианство, а под христианством — православие, как его аутентичную форму: первую, исходную, начальную, неискаженную и поэтому истинную.
Традиционно считается, что теологическое объяснение истории базируется на утверждении о том, что все исторические события происходят по воле Бога . Именно данное утверждение и считается как в марксизме, так в оппонирующих ему философских направлениях «устаревшим» и «неактуальным» в наш современный и «просвещенный» век. Причем начало такого рода воззрения на теологическое объяснение исторических событий уходит своими идейными корнями на несколько столетий назад, возможно — в начало Нового времени, когда в недрах de jure философского вольномыслия и скептицизма сформировалась de facto сциентистская и позитивистская светская секулярная традиция, проявившаяся сначала в пантеизме Возрождения, а затем и в атеизме Просвещения и наследующего ему рационализма XIX–XX вв.
Вспомним вторую часть эпилога романа Л. Н. Толстого «Война и мир», которая представляет собой основательные рассуждения мыслителя, несомненно далекого от материализма и атеизма, в проблемном поле философии истории. Критикуя идеалистическое объяснение истории, которое позиционирует себя как противостоящее теологическому и, кажется, пришедшее на смену ему, Л. Н. Толстой отмечает, что оно, по сути, следует ему. Тем самым, получается, Л. Н. Толстой отказывает и тому, и другому объяснению в эвристической силе (см.: [Толстой, 1974, 303–305]).
Прежде чем говорить далее о теологическом объяснении истории, зададимся вопросом — действительно ли с точки зрения такого объяснения все исторические события происходят по воле Бога? Кажется — конечно же, а как же иначе? И еще вопрос: теологическое и провиденциальное объяснения истории — это равнозначные понятия или нет? На этот вопрос, по всей видимости, следует ответить положительно: вряд ли удастся найти какое-либо принципиальное отличие понятия «теологическое» от понятия «провиденциальное». Также обратим внимание на то, что важным элементом или даже квинтэссенцией материалистического объяснения истории является утверждение о нашей возможности познания и преобразования социальной действительности («всё в наших руках», «каждый — кузнец своего счастья», «человек — это звучит гордо» и т.д.). Таким образом, спутником исторического материализма и атеизма является антропоцентрический волюнтаризм, или антроповолюнтаризм. В то же время, как это представляется с материалистической и атеистической точки зрения, теологическое, или провиденциальное, объяснение истории предполагает, что, во-первых, исторические события не подлежат никакому познанию, т. к. зависят от бесконечной, неведомой нам и непостижимой Божественной воли, а во-вторых, следовательно, от нас ничего не зависит и мы можем только пассивно наблюдать и принимать все происходящее как долженствующее и неизбежное. Иначе говоря, если спутник материалистического объяснения — антроповолюнтаризм, то спутник теологического объяснения — противоположный антроповолюнтаризму провиденциализм, который, получается, представляет собой разновидность фатализма.
Именно здесь и содержится крупная, существенная, принципиальная теоретикометодологическая, логическая и мировоззренческая ошибка, на основе которой теологическое, или провиденциальное, объяснение истории воспринимается, трактуется и оценивается в корне неправильно, когда ему приписывается то, чего в нем нет, и за него утверждается то, чего оно никогда не утверждало. Такое положение дел, возможно, является результатом нарастающего секуляризма Нового и Новейшего времени, отсутствия религиозного образования и просвещения, в отличие от образования и просвещения научного и, как следствие, возрастания религиозной непросвещенности и безграмотности (см. подр.: [Гусев и др., 2022]). Хотя не исключено и иное объяснение, которое заключается в утверждении о преднамеренном искажении основных провиденциальных идей с целью их дискредитации и направления человека и человечества в противоположную от них сторону; в таком случае это будет одним из проявлений духовной брани , начинающейся в Священной истории и сопровождающей естественную историю на всем ее протяжении.
Итак, о какой же ошибке или существенном искажении провиденциальных представлений идет речь? Разве, как выше уже был сформулирован данный вопрос, согласно теологическому, или провиденциальному, объяснению мира, человека, общества и истории речь идет не о том, что всё в жизни природы, человека и общества происходит по воле Бога? Конечно же, речь идет об этом, но… не только. Кстати, если исходить из истинности того, что все исторические события происходят по воле Бога, тогда совершенно непостижимыми и необъяснимыми оказываются происходящие в истории человечества несправедливость, угнетение, насилие, кровопролитие, убийства, что является «принципиальным» и «существенным» аргументом противников религиозного мировоззрения в их критике, а вернее, псевдокритике своих оппонентов. Причина подобного положения дел заключается в том, что в обозначенном выше представлении теологического объяснения истории присутствует логическая ошибка, называемая широким определением. Иначе говоря, в нем умышленно или непреднамеренно заложена неполнота, недосказанность или некое замалчивание. Высказывание, например, о том, что квадрат — это прямоугольник, является истинным, но как определение оно несостоятельно, т.к. не раскрывает содержание определяемого понятия. Если не сказать о том, что квадрат — это прямоугольник с равными сторонами, то утверждение о нем как о прямоугольнике фактически ничего не дает. Если у прямоугольника стороны равные, то у него появляются такие свойства, или признаки, которые в принципе невозможны для прямоугольника, не имеющего равных сторон, например равенство диагоналей и их взаимная перпендикулярность.
Итак, теологическое объяснение истории базируется на положении о том, что на всё воля Бога , но… при полном сохранении свободной воли человека . Почему-то, как правило, утверждение о свободной воле человека неким непостижимым образом почти повсеместно (со стороны критиков провиденциализма) «выносится за скобки». И именно при таком «вынесении» провиденциализм становится разновидностью фатализма, где как раз от нас ничего не зависит . Противоположный полюс фатализма — антроповолюнтаризм, в котором все в наших руках . Оказывается, подлинное, неискаженное содержание провиденциализма, противостоящего одновременно и фатализму, и антроповолюнтаризму, связано с утверждением о наличии, взаимодействии, сотрудничестве, соработничестве двух воль — воли Бога и воли человека, двух личностей — Родителя и Его ребенка, между которыми единственно возможен диалог , который и является ре-лигией — восстановлением, возвращением, возобновлением, возрождением утраченной связи человека и Бога, временного и вечного, изменяющегося и неизменного, имманентного и трансцендентного, несовершенного и совершенного, земного и небесного. В фатализме же, как правило, речь идет не о Личном Боге, а о некоем безличностном высшем начале, по отношению к которому человек — тоже не личность (и не ребенок), а своего рода питомец , не обладающий свободой воли, в силу чего между первым и вторым не может быть никакого диалога. В антроповолюнтаризме, являющемся мировоззренческим спутником материализма и атеизма, тем более нет и не может быть какого-либо диалога, т. к. в метафизическом смысле напротив человека стоит не благодатное Ты (как в теизме и провиденциализме) и не неопределенное и непонятное оно (как в пантеизме и связанном с ним фатализме), а бескрайнее, холодное, безмолвное, вечное ничто , обессмысливающее и обнуляющее как жизнь каждого человека, так и историю человечества (см. подр.: [Павловский, 2015]).
Возможно утверждать, что знаменитая пословица «На Бога надейся, а сам не плошай» является точным выражением провиденциальной идеи, где союз естественного языка «а» употребляется не в смысле противопоставления, а в роли логического союза «и», или конъюнкции, предполагающей фундаментальное свойство сотворенного Богом человека, которое заключается в том, что бесконечная и всеблагая воля Небесного Родителя не исключает, а предполагает свободную волю Его ребенка. Именно поэтому человек может как следовать воле Бога, так и не следовать, соблюдать дарованные ему Господом для его же блага заповеди или не соблюдать их, грешить или стараться не грешить, раскаиваться в содеянном или преумножать свои безобразия, пытаться жить по совести или оправдывать свою бессовестность, стремиться к смирению и кротости или тщеславиться и гордиться, бороться со своими пороками или потакать им. Также именно в силу наличия свободной человеческой воли Бог никого не ведет насильно в Царствие Небесное, не спасает человека без его на то желания, не принуждает к истинной вере и правильной жизни. Можно сказать, что Бог терпеливо ждет от человека его добровольного согласия и собственного усилия по исцелению, исправлению, преображению его искаженной и поврежденной грехом природы.
Также наличие свободной человеческой воли является вполне когерентным ответом на безответный, кажется, вопрос о том, почему Бог не искореняет земное зло или почему допускает его? Разве не может Бог сделать так, чтобы человек не мог совершать зло? Конечно же, может, но как только такое окажется сделанным, т. е. как только человек станет таким, что он не будет знать, как совершить зло, и не сможет его совершить, тогда исчезнет свобода человеческой воли, а это будет означать, что человек перестанет быть человеком. Бог потому и не искореняет земное зло, что ждет от человека такого его состояния, устроения и расположения, когда он будет знать, как совершить зло и будет в состоянии его совершить, и при этом свободно и добровольно… не совершит, не сделает, не поступит так, — не потому что не сможет, а потому что не захочет, потому что ему это станет не нужно, потому что зло будет ему глубоко ненавистно и отвратительно. Бог не создавал зла, сотворенный Им мир и человек были совершенны, а зло появилось в результате свободного человеческого выбора, приведшего в катастрофе грехопадения, следствием которой явилось глубокое повреждение и человека, и мира вместе с ним. Человек и весь мир перестали быть совершенными и стали такими, какими мы сейчас их знаем и наблюдаем; и именно в таком своем нынешнем виде они являются объектами изучения науки. Заглянуть же в докатастрофическое состояние мира и человека с помощью научного метода совершенно невозможно, т. к. доступ к этому некогда утерянному состоянию и возможность возвращения в него открывается только религиозной верой и жизнью. Такого рода идея лежит в русле концепции альтеризма (лат. alter — другой), основные положения которой аннулируют все утверждения об имеющихся будто бы противоречиях между научной и религиозной картинами мира (см. подр.: [Гусев, Потатуров, 2022]).
Провиденциализм, принимая во внимание наличие свободы человеческой воли, отличается от фатализма и определенным представлением о том, что такое Провидение, или Промысл Божий. При «вынесении за скобки» свободной воли человека получается, что последний является пассивным объектом неведомого ему действия Провидения, что характерно как раз для пантеистического фатализма и несовместимо с теистическими представлениями, где Бог — это Родитель, а человек — Его ребенок, или человек — страждущий пациент, а Бог — мудрый и добрый Врач, исцеляющий его от терзающего его недуга. Как действия врача по излечению больного исходят из его состояния и определяются им, так, получается, и Божественный Промысл о человеке, как ни странно это прозвучит, отмечает профессор богословия А. И. Осипов [Осипов: Промысл Божий ], определяется текущим, или настоящим, духовным его (человека) состоянием и направляется к наилучшему устроению, которое может быть сделано с этим человеком в данное время и с учетом всех обстоятельств и факторов наличного его бытия, каким бы запущенным и упущенным и, кажется, безнадежным оно ни было. В контексте данной аналогии представим, что некий человек сильно повредил или покалечил сам себя определенным образом жизни и пришел к врачу, который, конечно же, в данной ситуации вправе не лечить его — по принципу «сумел сломать, сумей и починить», — но тем не менее, вместо того чтобы прогнать его, берется за его лечение. Далее представим, что этот вылеченный пациент, «на радости» вновь взялся за прежнее и еще больше, чем раньше, повредил и покалечил себя — и вновь пришел к врачу, который теперь более, чем раньше, имеет моральное право прогнать его, но, вместо этого, вновь терпеливо и заботливо лечит его, причем теперь — исходя из более запущенного, сложного и тяжелого его состояния. Бог является бесконечно милосердным и терпеливым Врачом, Который лечит человека в любом его стоянии и несмотря на все его безобразия, если тот по свободной воле приходит к Нему и просит о помощи. Само же лечение и есть Промысл Божий о нем, премудро и благодатно действующий с учетом степени духовного помрачения и самоповреждения человека. Свобода же человеческой воли в провиденциализме заключается также еще и в том, что человек сам добровольно приходит к Врачу, желая своего исцеления, и помогает Ему лечить себя, добросовестно выполняя все Его рекомендации и предписания.
Возвращаясь к материалистическому объяснению истории, которое находится в смысловых координатах атеизма, эволюционизма, сциентизма, детерминизма, редукционизма, антропоцентрического волюнтаризма, отметим, что оно традиционно считается явно противостоящим теологическому объяснению, тесно связанному с противоположным мировоззренческим лагерем, представленным теизмом, креационизмом, антисциентизмом (понимаемом не как отрицание науки, а как сомнение в ее безграничных возможностях), индетерминизмом, антиредукционизмом, провиденциализмом (см. об этом: [Шлыков, 2015; Безлепкин, 2017]).
В материалистическом объяснении истории, как уже говорилось, в основе событий лежат материальные потребности и интересы людей, которые являются исходными, основными, фундаментальными, базисными в социальных и исторических процессах; поэтому считается, что познавая их или изучая связанную с ними экономическую сферу жизни общества, можно постичь реально существующие механизмы и законы общественного развития.
Как некогда Демокрит стал утверждать, что многообразие природных объектов, свойств и явлений сводится к первоэлементам бытия — атомам, движущимся и взаимодействующим в пустоте, так и основоположники исторического материализма открыли своего рода «социальные атомы» в виде материальных, или экономических, потребностей как каждого человека, так и различных человеческих сообществ, многообразные и сложные взаимодействия и комбинации которых (потребностей и интересов) приводят к историческому движению человечества. И как необычность и революционность для своего времени открытия Демокрита заключалась в том, что за видимыми нами вещами и их качествами стоят невидимые атомы и их движения, так и социально-философское и историческое открытие марксизма говорило о том, что за видимой бесконечно пестрой картиной истории человечества скрываются невидимые пружины — материальные интересы ее участников.
С «легкой руки» Демокрита атомы считались первоэлементами физического мира на протяжении почти двух с половиной тысячелетий. Тем не менее не так давно, на рубеже XIX-XX вв., стали говорить о делимости и структурности атомов — за тем уровнем организации материальной реальности, который долгое время казался начальным, исходным, фундаментальным, был обнаружен еще один уровень, к которому и перешел «статус» базисности, или первоначальности, — уровень элементарных частиц. Возможно ли то же самое и по отношению к «социальным атомам» исторического материализма — материальным человеческим потребностям и интересам?
Зададимся вопросом: откуда они берутся, каковы их источники и причины? На первый взгляд ответ кажется вполне очевидным: они являются производным от физической, или телесной, организации человека, который, будучи живым организмом, представителем одного из биологических видов, прежде всего, по главному закону природы, нуждается в питании, влаге, жилище, одежде и т. д. А поскольку это имеет не социальное, или внесоциальное, биологическое происхождение, то для социального уровня организации человека и его жизни материальные потребности и интересы вполне можно и даже нужно рассматривать в качестве «атомарных», или «элементарных». По поводу вышесказанного не возникало бы вопросов и возражений, если бы не одно существенное обстоятельство, которое ставит под сомнение фундаментальность человеческих материальных потребностей. Это обстоятельство заключается в том, что материальные потребности и интересы одного человека и количественно, и качественно сильно отличаются от потребностей и интересов другого человека, или, иначе говоря, никто не подвергнет сомнению тот факт, что одному человеку для полного счастья (разумеется — материального) нужно, без преувеличения, в десятки, если не в сотни раз больше или меньше, чем другому, в то время как телесная, или физическая, материальная организация одного мало чем отличается от той же организации другого, т. к. они принадлежат к одному и тому же биологическому виду. Один воробей, например, не сможет съесть в десятки раз больше корма, чем другой, а лошадь, конечно же, сможет съесть намного больше воробья, т. к., будучи представителем другого биологического вида, превосходит его по телесному объему в десятки и сотни раз. Так же, например, одна мышь никогда не соорудит себе норку в десятки раз большего размера, чем другая, а лиса, наоборот, соорудит, во много раз превосходя мышь по своим «материальным потребностям и запросам».
Итак, исходя из самой природной, или физической, внутренней «логики» устроения человеческих материальных потребностей, они не могут значительно различаться у разных людей, т. к. все мы имеем приблизительно одну и ту же материальную организацию; а между тем разница в уровне этих потребностей у разных представителей рода Homo Sapiens является колоссальной. В чем заключается причина подобного положения дел?
В поисках ответа на этот вопрос возможно предположить следующее. Человек, в отличие от других объектов живой природы, является существом двухсоставным — природным и сверхприродным, физическим и метафизическим, телесным и духовным. И если телесная организация одного человека почти ничем не отличается от таковой организации другого человека, то духовное устроение одного как раз может значительно отличаться от устроения другого. В таком случае не в нем ли (духовном состоянии и расположении) следует искать причины различий материальных потребностей и интересов разных людей? И не будет ли в этом случае духовное состояние человека тем самым фундаментальным, или «субатомным», антропологическим уровнем для его материальных потребностей и интересов, как — в качестве аналогии — уровень элементарных частиц некогда оказался более глубинным по отношению к атомарной структуре вещества? Данное предположение усиливается еще и тем обстоятельством, что «материальные потребности» всеми живыми организмами, кроме человека, не осознаются, они действуют механически, или автоматически, полностью подчиняясь природной стихии инстинктов. С человеком все совершенно иначе: наши материальные потребности, желания и интересы полностью нами осознаются и даже рефлектируются, а их осознание ведет, опять же, к свободному выбору одной из двух возможностей — стремлению как можно полнее их удовлетворить и реализовать или же попытке их пересмотреть, изменить, исправить, вплоть до предельной их минимизации.
Итак, нисколько не отрицая роль и значение материальных потребностей и интересов человека как двигателя его «производственно-практической», или социальноэкономической, деятельности, возможно утверждать, что сами эти потребности являются производными от его общего духовного состояния, расположения и устройства, которое и является базисным, или определяющим в бытии человека, а следовательно — также и в жизни общества и истории человечества. В данном случае, получается, каким бы странным ни показалось на первый взгляд это утверждение, что материалистическое объяснение истории, или исторический материализм, не противостоит провиденциальному пониманию и объяснению и не исключает его, а наоборот, предполагает и указывает на него; или является его частным случаем, в то время как последнее может быть представлено в качестве расширенного и углубленного варианта первого. Здесь, вновь прибегая к аналогии в целях иллюстрации, можно обратиться к знаменитому принципу соответствия Нильса Бора, по которому кажущиеся противоречащими друг другу научные теории могут не только не исключать друг друга, но взаимодействовать таким образом, что одна из них содержит в себе другую со статусом частного случая или устанавливает для нее ограниченную область применения. Например, теория относительности А. Эйнштейна в предельном своем выражении превращается в законы классической механики И. Ньютона, а геометрия Н. Лобачевского — в геометрию Евклида, равно как и наоборот — евклидова геометрия при огромном расширении исследовательских масштабов становится гиперболической геометрией, а классическая механика переходит в теорию относительности.
В историческом материализме ключ к пониманию и объяснению исторических событий «спрятан» в области поиска материальных потребностей и экономических интересов (cui prodest) человека и различных человеческих объединений. Однако, если эти потребности и интересы сами являются проявлением, выражением, «оформлением», реализацией, материализацией духовного состояния человека, то тогда история человечества — итоговый, суммарный, всеобщий, «векторный» результат духовных состояний каждого его представителя; и ключ к пониманию бывших и ныне происходящих событий надо искать именно в этом состоянии и расположении каждого из нас. И в данном случае всем известное социально-материалистическое cui prodest (ищи, кому выгодно) будет заменено на не менее знаменитый античный императив познай самого себя (греч. gnothi seauton, лат. nosce te ipsum), который традиционно связывается с областью психологической проблематики, но, как видим, с не меньшими основаниями может претендовать на социальный и исторический статус.
Вспомним иллюстрацию основной идеи исторического материализма с помощью аналогии большой широкой реки и тысяч маленьких формирующих ее ручейков, речушек и рек. Эта аналогия вполне может служить образным выражением и основного провиденциального утверждения: маленькие ручейки и речки, образующие широкую реку, — это духовное состояние каждого человека, которое, складываясь с духовными состояниями других людей, порождает, создает, обуславливает общий вектор духовного состояния общества и человечества и соответствующие этому состоянию события. Поэтому, когда нас ужасает происходящее в обществе и в истории человечества, то прежде всего следует ужаснуться своему духовному устроению и расположению, которое и является глубинной причиной всего совершающегося, ведь если воды большой реки являются грязными, то это обусловлено грязью каждого ручейка, формирующего ее, а не наоборот. Следовательно, и очищение каждого ручейка — личное изменение и преобразование человека — является началом, основанием и залогом очищения всей полноводной реки — преобразования общества и истории человечества (см. об этом: [Ларюшкин, 2018]).
Если в историческом материализме надо познать закономерности социальноэкономического развития, а вместе с ними и законы истории, чтобы «изменить мир», то в провиденциальном понимании человеку следует не только познать самого себя, т.е. понять свое подлинное духовное состояние — поврежденное, помраченное, несчастное, дурное и негодное, — но и постараться изменить его, для блага собственного и общественного. С историко-материалистической точки зрения такого рода экзистенциальная практика не признается в качестве средства социального устроения, т. к. бытие определяет сознание , и поэтому «не мы такие, а жизнь такая» , в силу чего философское внимание сосредоточено не на личном изменении, а на революционном преобразовании мира. Согласно же провиденциальному взгляду путь революционного героизма или социального реформаторства является тупиковым, чему свидетельством вся история человечества: за несколько тысячелетий бесчисленного количества разнообразных попыток достижения (и в теории, и на практике) общественного процветания ни один проект или движение не увенчались успехом (см. подр.: [Рахова, 2016]). Однако, если каждый человек и не знает , как обустроить общественную жизнь, и не може т сделать этого, то он вполне может постараться обустроить, переустроить, изменить, преобразить свое духовное расположение и состояние, что и будет маленьким личным усилием, приводящим в конечном результате к глобальным и позитивным социальным изменениям. Как отмечает профессор А. И. Осипов, в русской народной сказке про репку [Осипов: Смысл сказки про репку ], которую правильнее назвать философской притчей или экзистенциальной мудростью, крупное событие в виде вытащенной репки произошло после того, как к трудящимся по ее вытягиванию присоединилась мышка — ее малое усилие стало конечной причиной большого результата. В контексте такого рассуждения становится не просто понятным, но и принципиально осуществимым знаменитый императив св. Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Такую же идею предлагает и прп. Максим Исповедник, говоря, что человек может превратить в рай всю землю, если будет носить рай в себе самом (см. также: [Биленко, 2007; Ким, 2016]).
Если материальные потребности, о которых как о первичных в жизни человека и общества говорит материалистическое объяснение истории, имеют своим источником нашу телесную организацию, то тогда, конечно же, путь экзистенциального преображения как основы социальных изменений оказывается закрытым, ведь у нас нет возможности существенно изменить свою физическую составляющую: человек не может не испытывать чувство голода или жажды, не может не дрожать от холода, не изнывать от жары, не падать от усталости, не спать, не болеть, не стареть и т.п. Однако если сами материальные потребности, о чем говорит провиденциальное понимание человеческого бытия, являются производными от духовного состояния человека, тогда открывается удивительная возможность личного изменения как источника и начала преобразования социальной жизни и исторического движения общества. В силу наличия свободной человеческой воли каждый может попробовать увидеть, осознать, понять свое настоящее духовное расположение и не порадоваться ему, а содрогнуться от него, постараться не сохранить и преумножить его, а преодолеть и искоренить — с помощью Божией, идя путем религиозной веры и жизни: не гордиться, не тщеславиться, не превозноситься, не раздражаться, не гневаться, не злиться и не желать кому-либо зла, не завидовать, не осуждать, не ревновать, не обижаться, уметь прощать, стремиться к кротости и смирению, послушанию и терпению, великодушию и милосердию, целомудрию, просветлению, правде и сердечной чистоте. Это пробуждение человека от метафизического сна, его рождение заново, воскресение, преображение, самопреодоление, этот путь религиозного подвижничества (а не революционного героизма) хотя и является узким, тернистым, трудным, сложным, но все же — принципиально возможным.
Список литературы «Мышкино усилие», или исторический материализм и христианский провиденциализм в философии истории
- Безлепкин (2017) — Безлепкин Н. И. От историософии к философии истории: эволюция взглядов на историю в отечественной философской мысли // Управленческое консультирование. 2017. № 8 (104). С. 119–132.
- Биленко (2007) — Биленко Т. И. Героизм и подвижничество: проблема выбора // Булгаковские чтения. 2007. № 1. С. 184–189.
- Гобозов (2008) — Гобозов И. А. Материалистическое понимание истории и современность // Философия и общество. 2008. № 2 (50). С. 5–22.
- Гринин (2016) — Гринин Л. Е. Исторический материализм: есть ли будущее у концепции? // Восточно-Европейский научный вестник. 2016. № 4 (8). С. 33–57.
- Гусев, Потатуров (2022) — Гусев Д. А., Потатуров В. А. Три уровня восприятия социально-политического конфликта, или Еще об одном повреждении человеческой природы // Философская мысль. 2022. № 8. С. 29–56.
- Гусев и др. (2022) — Гусев Д. А., Минайченкова Е. И., Пустовойтов Ю. Л. Гармония научного и религиозного просвещения как условие устойчивости современного российского общества (историко-философский и общетеоретический аспекты) // Образовательные ресурсы и технологии. 2022. № 4 (41). С. 72–79.
- Ким (2016) — Ким В. В. «Героизм и подвижничество» С. Н. Булгакова: опыт современного прочтения // Булгаковские чтения. 2016. № 10. С. 30–35.
- Красиков (2016) — Красиков В. И. Философия истории: интеллектуальная динамика // Философия и общество. 2016. № 4 (81). С. 63–77.
- Кржевов (2000) — Кржевов В. С. Материалистическое понимание истории и его современное значение // Философия и общество. 2000. № 1 (18). С. 113–131.
- Ларюшкин (2018) — Ларюшкин С. Взгляд Православной Церкви и интеллигенции на историю цивилизации в свете провиденциализма // Русское православие и интеллигенция. Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина. 2018. С. 33–40.
- Мареев (2011) — Мареев С. Н. Методология исторического исследования: социальная философия и материалистическое понимание истории // Логос. 2011. № 2 (81). С. 98–112.
- Осипов: Промысл Божий — Осипов А. И. Промысл Божий и свобода воли человека. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ieRBdny3gUw (дата обращения: 25.09.2024).
- Осипов: Смысл сказки про репку — Осипов А. И. Смысл сказки про репку. URL: https://www.youtube.com/watch?v= –ZoJ_SbW1lc (дата обращения: 25.09.2024).
- Павловский (2015) — Павловский В. П. Вопросы диалога религиозного и нерелигиозного мировоззрений // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2015. № 1. С. 205–209.
- Плеханов (1956) — Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю // Избранные философские произведения в пяти томах. М., 1956. Т. 1. С. 594.
- Поппер (2004) — Поппер К. Р. Предположения и опровержения. Рост научного знания / Пер. А. Л. Никифорова. М., 2004.
- Рахова (2016) — Рахова Е. Э. Гуманистический героизм и православное подвижничество // Инновационная наука. 2016. № 4–4. С. 73–76.
- Толстой (1974) — Толстой Л. Н. Война и мир. Том четвертый. Эпилог. Часть вторая // Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 12 т. М., 1974. Т. 7. С. 303–359.
- Шлыков (2015) — Шлыков В. М. Провиденциализм как принцип понимания истории // Вестник Российского нового университета. Сер.: Человек и общество. 2015. № 6. С. 5–10.