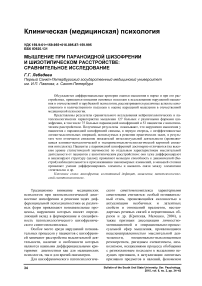Мышление при параноидной шизофрении и шизотипическом расстройстве: сравнительное исследование
Автор: Лебедева Гульфия Гадилевна
Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu
Рубрика: Клиническая (медицинская) психология
Статья в выпуске: 2 т.8, 2015 года.
Бесплатный доступ
Обсуждаются дифференциальные критерии оценки мышления в норме и при его расстройствах, приводятся описания основных подходов к исследованию нарушений мышления в отечественной и зарубежной психологии, рассматриваются различные аспекты качественного и количественного подходов к оценке нарушений мышления в отечественной медицинской психологии. Представлены результаты сравнительного исследования нейропсихологических и патопсихологических характеристик мышления 127 больных с различными формами шизофрении, в том числе 75 больных параноидной шизофренией и 52 пациентов с шизотипическим расстройством. Полученные результаты показывают, что нарушения мышления у пациентов с параноидной шизофренией связаны, в первую очередь, с неэффективностью логико-мыслительных операций, используемых в решении практических задач, в результате чего отмечается снижение показателей интеллектуальной деятельности (проявляющиеся клинико-психологической и экспериментально-психологической картиной снижения интеллекта). Пациенты с параноидной шизофренией достоверно отличаются (на высоким уровне статистической значимости) по отдельным характеристикам мыслительной деятельности от пациентов с шизотипическим расстройством: они хуже дифференцируют и анализируют структуру (целое); проявляют меньшую способность к динамической (быстрой) наблюдательности и прослеживанию закономерных изменений, в меньшей степени проявляют умение дифференцировать элементы и выявлять связи между элементами «гештальта» и др.
Шизофрения, когнитивный дефицит, мышление, патопсихологический симптомокомплекс
Короткий адрес: https://sciup.org/147159962
IDR: 147159962 | УДК: 159.9:61+159.955+616.895.87:159.995
Текст научной статьи Мышление при параноидной шизофрении и шизотипическом расстройстве: сравнительное исследование
Традиционно внимание медицинских психологов при патопсихологической диагностике шизофрении и решении задач дифференциальной психодиагностики ее различных форм привлекают познавательные процессы, нарушения которых вносят определяющий вклад в формирование и специфичность патопсихологического шизофренического симптомокомплекса.
Особое место среди нарушений познавательных процессов у пациентов с шизофренией занимают расстройства мыслительной деятельности, наличие и особенности которых являются важными дифференциальными критериями диагностики как для медицинских психологов, так и для врачей-психиатров.
Для шизофренического патопсихологиче- ского симптомокомплекса характерными симптомами считаются: особый познавательный стиль, проявляющийся склонностью к актуализации необычных и латентных свойств и отношений предметов, нестандартных речевых связей и перцептивных образов и др. (Критская, Мелешко, 2004), а также признаки диссоциации личностномотивационной и операционально-процессуальной сфер мышления, проявляющиеся нецеленаправленностью мыслительной деятельности, эмоционально-выхолощенным резонерством, ригидным схематизмом, символизмом, искажениями процесса обобщения с разноплановым подходом к выделению ведущих признаков, в актуализации латентных признаков предметов и явлений, феноменом патологического полисемантизма (Соловьева, 2004).
Материалы выполненного под руководством Ю.Ф. Полякова сравнительного экспериментального исследования больных шизофренией свидетельствуют, что в сравнении со здоровыми у пациентов отмечается нарушение актуализации сведений из прошлого опыта, расплывчатость, причудливость мышления, приводящие в итоге к нарушению психической деятельности (цит. по: Пушкина Т.П., 1996).
При проведении патопсихологической диагностики больных шизофренией рекомендуется обращать особое внимание на искажение операциональной стороны мышления и изменение его мотивационного компонента, характер эмоциональной и личностной вовлеченности испытуемого в процесс патопсихологического эксперимента1.
Современные тенденции в изучении шизофрении по-прежнему требуют обращать внимание на нарушения мышления, однако при этом предлагаются новые теоретические и практические подходы. Так, в серии проведенных Т.В. Чередниковой теоретических исследований по этой проблеме предлагается использовать теорию и терминологию информационной модели мышления Л.М. Век-кера и использовать операнды, операторы горизонтальных и вертикальных связей, механизм взаимообратимого образно-словесного информационного перевода для объяснения особенностей мышления (Чередникова, 2010, Чередникова, 2011).
При этом, как отмечает Т.В. Чередникова, нарушения вербального мышления по типу актуализации латентных признаков, парадоксальности и парадигматической формы резо-нерств, разработанные в отечественной школе патопсихологии (Б.В. Зейгарник, Ю.Ф. Поляков, С.В. Лонгинова, Б.Г. Херсонский и др.), в зарубежной науке либо не упоминаются, либо рассматриваются совершенно с иных позиций. С другой стороны, в отечественной науке и практике не используются понятия «стимульное сверхвключение», «смысловая приблизительность в употреблении слов», «фразеологические неологизмы», «нарушения границ „эго“», «магическое мышление» и др., которые в зарубежных публикациях отнесены к нарушениям познавательных (когнитивных) функций: внимания, памяти, речи, процесса переработки информации (Чередникова, 2011а, Чередникова, 2011б).
Кроме того, предлагается использовать положения современных зарубежных нейро-когнитивных теорий для объяснения нарушений мышления при шизофрении (Череднико-ва, 2011), а при решении прикладных вопросов дифференциальной патопсихологической диагностики выявлять специфику связи нарушений мышления при шизофрении с интеллектом в сравнении с аналогичного рода нарушениями при органических заболеваниях (Чередникова, 2014). Решая прикладные задачи разграничения клинических проявлений расстройств шизофренического спектра между собой (в частности, при параноидных, шизоаффективных и шизотипических расстройствах), предлагаются различные дифференциально-диагностические критерии, основанные, например, на особенностях нарушения перцептивной организации (Ершов, 2011б), показателей внимания, показателей невербального индуктивного мышления в сравнении с аналогичными показателями у больных с органическими психическими расстройствами (Ершов, 2011а, Чередникова, 2014, нарушение критичности, истощаемости мышления, мотивационно-личностного компонента мышления (Мухитова, 2013).
Вышеизложенное послужило основанием для вывода о том, что в настоящее время методологические подходы к изучению нарушений когнитивных процессов в западной клинической психологии и отечественной патопсихологии значительно расходятся (Лебедева, Исаева, Степанова, 2013; Исаева, 2014).
Зарубежные представления о нарушениях при шизофрении связаны с понятием «когнитивный дефицит» («нейрокогнитивный дефицит»), который определяется как недостаточность высших психических функций (памяти, внимания, мышления, речи) и исполнительских функций (executive functions), а также их произвольной регуляции и контроля, возникающие вследствие структурно-функциональных нарушений головного мозга (Green et al., 2000).
В зарубежных публикациях широко представлены концепции и понятийный аппарат нейрокогнитивных наук, которые во многом перекликаются с исследованиями выдающегося советского нейропсихолога А.Р. Лурии. Однако при этом в современной зарубежной нейропсихологии активно применяются новейшие аппаратные средства нейровизуализации (МРТ, ФМРТ, ПЭТ и т. п.), но это используются лишь для исследования отдельных функций, и, к сожалению, без учета принципов системности организации психической деятельности.
В свою очередь, в отечественной психологии принята концепция пато- и нейропсихологических симптомокомплексов и синдромов, и нарушения мышления при шизофрении интерпретируются в рамках этих категорий. При этом, в современной отечественной психологии по-прежнему мало используется количественный подход к интерпретации нарушений мышления, в том числе и потому, что основатели отечественной патопсихологии и нейропсихологии (А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник и др.) отстаивали приоритет принципа качественного анализа нарушений психической деятельности и критиковали западных коллег за увлечение количественными измерениями: «Долгое время в клиниках господствовал метод количественного измерения психических процессов, метод, который основывался на вундтовской психологии. … Исследование распада какой-нибудь функции состояло в установлении степени количественного отклонения от ее «нормального стандарта» (Зейгарник, 1986, с. 24).
Пожалуй, именно в этом видится одна из проблем установления взаимопонимания между отечественными учеными и западными исследователями.
В последние годы в отечественной медицине и медицинской психологии изучается и, в некоторой степени, углубляется практика использования понятийного аппарата и зарубежных представлений о «когнитивном дефиците» при шизофрении (Аведисова, Вериго, 2001; Магомедова, 2000; Зотов, 2011; Зотов, 2013; Ершов, 2011а; Ершов, 2011б; Мухитова, 2013; Лебедева, Степанова, Исаева, 2013; Кобзова, 2014 и др.). В настоящее время тематика научных исследований все в большей мере сосредоточена на поисках нейрокогни-тивных изменений познавательных процессов, что сближает позиции зарубежной и оте- чественной психологии в поисках «ядерных» нарушений и критериев для дифференциальной диагностики при шизофрении (Говорин, Панина, 2007).
Вышеизложенное предопределило необходимость проведения исследования, целью которого было изучение нейропсихологических и патопсихологических характеристик мышления при разных формах шизофрении.
Материал исследования. В исследовании приняли участие 75 пациентов с диагнозом параноидной шизофрении (код F 20.0 по Международной классификации болезней 10-го пересмотра, МКБ-10, группа 1) и 52 пациента с диагнозом шизотипического расстройства (вялотекущая шизофрения) (код F 21, группа 2), в возрасте от 18 до 30 лет. Основные традиционно учитываемые в такого рода исследованиях социально-демографические характеристики пациентов в этих группах больных являлись сопоставимыми между собой.
Критерии включения: наличие клинического диагноза, установленного в соответствии с диагностическими критериями МКБ-10; отсутствие на момент обследования острой психотической симптоматики, выраженного ин-теллектуально-мнестического снижения и признаков нейролептического синдрома; отсутствие полиморфной психопатологический и соматической симптоматики и коморбидных расстройств; наличие информированного добровольного согласия на участие в исследовании и отсутствие возражений со стороны лечащего врача-психиатра. Особенным критерием включения, заданным целями исследования, являлось правшество пациентов.
Методы: для оценки мыслительной деятельности использовались: субтест «Сходства» методики Д. Векслера (Филимоненко, Тимофеев, 2006); стандартные прогрессивные матрицы Равена (Прогрессивные матрицы… 2011); пиктограммы (Херсонский, 2003).
В ходе исследования анализировались различия в выполнении когнитивных тестов в группах пациентов с разными формами шизофрении. равнение среднегрупповых статистических данных вида М±m проводилось с помощью U-теста Манна–Уитни. Корреляции между переменными устанавливались с использованием непараметрического критерия Спирмена.
Результаты: были установлены различия на уровне статистической значимости (р<0,05) в некоторых характеристиках мысли- тельной деятельности у пациентов с параноидной шизофренией и шизотипическим расстройством.
Анализ характера выполнения проб в каждой серии матриц Равена показал, что существуют качественные отличия в мыслительной деятельности пациентов с параноидной шизофренией и шизотипическим расстройством.
Пациентами с параноидной шизофренией все серии теста Равена выполняются хуже, чем пациентами с шизотипическим расстройством. При этом пациенты первой группы менее эффективно справляются с заданиями серии А, в которые заложен принцип взаимосвязи в структуре матрицы ( выполняют меньше количество заданий по сравнению с пациентами второй группы (М1=10,9±0,2 против М 2 =11,2±0,2 соответственно, при р=0,02). Можно сделать вывод о том, что пациенты параноидной шизофренией в сравнении пациентами с шизотипическим расстройством хуже дифференцируют и анализируют структуру (целое) согласно ее основным частям, хуже могут уяснить взаимосвязь между элементами и идентифицировать недостающую часть структуры. При этом представляется, что визуальное различение выше у пациентов с шизотипическим расстройством.
Меньшая успешность пациентов с параноидной шизофренией в выполнении заданий серии В, в которые заложен принцип аналогии между парами стимулов ( выполняют меньшее количество заданий (М 1 =10,1±0,3 против М 2 =19,9±8,9 соответственно) приводит к выводу, что, пациенты с параноидной шизофренией в сравнении с пациентами с шизотипическим расстройством, обладают меньшей способностью постигать симметричность отношений между фигурами, меньшую способность к линейной дифференциации и формированию суждений и умозаключений на основе линейных взаимосвязей.
Сложности в выполнении заданий серии С с заложенным принципом прогрессивных изменений в фигурах матриц (М 1 =7,7±0,5 и М 2 =9,5±0,3 при р = 0,00) может объясняться сниженной способностью больных параноидной шизофренией проявлять динамическую (быструю) наблюдательность и прослеживать непрерывные изменения, затруднениями в определении логического принципа непрерывного развития положения фигур в пространстве.
Пациенты с параноидной шизофренией менее эффективно справляются с заданиями с заложенным принципом перегруппировки фигур (серия D) вероятно, вследствие меньшей способности прослеживать закономерную последовательность и чередование фигур в целостной структуре, что приводит к затруднениям в установлении количественных и качественных изменений при упорядочении (составлении) фигур согласно заданной закономерности (М1=7,3±0,5 против М2=9,2±0,4 при р=0,02).
Меньшая эффективность выполнения заданий серии Е (заданий с заложенным принципом разложения фигур на элементы) пациентами первой группы (М1=4,0±0,5 против М 2 =6,9±0,5 при р=0,00) свидетельствует о том, что пациенты с параноидной шизофренией, проявляют меньшую (в сравнении с пациентами с шизотипическим расстройством) способность наблюдать сложное количественное и качественное развитие кинетических (динамических) рядов, меньшую способность к абстрагированию (особенно на высоком уровне отвлечения) и к динамическому синтезу.
Общее количество правильных ответов больше (р = 0,00) у пациентов с шизотипическим расстройством (М 1 =47,5±1,5), чем у пациентов с параноидной шизофренией (М 2 =39,4±1,9).
Средние показатели интеллекта выше (р = 0,00) у пациентов с шизотипическим расстройством (М 1 =110,7±2,4 против М 2 =98,5±2,4 у пациентов с параноидной шизофренией). Однако следует отметить, что в целом показатели интеллекта в обеих группах пациентов находятся в пределах нормы.
Таким образом, результаты выполнения теста Равена показывают, что пациенты с параноидной шизофренией в целом менее эффективно справляются ним. При этом такие пациенты обнаруживают снижение способности к дифференциации и анализу структуры стимула, способности к динамической наблюдательности, к прослеживанию закономерной последовательности фигур, испытывают затруднения в прослеживании сложных вариантов количественного и качественного развития кинетических, динамических рядов. В отличие от этого, у пациенты с шизотипическим расстройством отмечается сохранность способность к систематизированной, планомерной, методичной интеллектуальной деятельности (сохранную логичность мышления).
Исследование мышления с помощью других патопсихологических методик также подтвердило наличие специфики изменения мыс- лительных процессов в сравниваемых группах пациентов.
Пациенты с параноидной шизофренией используют чаще конкретные образы в пиктограмме, при этом они реже используют атрибутивные образы. В сравнении с показателями нормы, такие пациенты меньше используют графические символы, метафорические и стандартные образы. Пациенты с шизотипическим расстройством чаще (в сравнении с нормой) используют конкретные, атрибутивные, стандартные образы и реже – метафорические и графические символы.
Таким образом, статистические данные по основным количественным и качественным показателям выполнения методики пиктограммы пациентами с шизофреническим расстройством были ближе к показателям группы нормы, чем к показателям пациентов с параноидной шизофренией.
При обследовании пациентов с помощью субтеста «Сходства» значения шкальной оценки у пациентов с параноидной шизофренией оказалось выше (М1=11,33±0,5 против М2=10,9±0,9 при том, что оба показателя находятся в пределах границ нормы). Следует обратить внимание, что результаты по этой методике у пациентов с параноидной шизофренией отличаются от данных о выполнении теста Равена (свидетельствующих о снижении их способности к систематизированной, планомерной, методичной интеллектуальной деятельности). При выполнении заданий субтеста «Сходства» пациенты с параноидной шизофрений неожиданно показали более высокий уровень вербального абстрактно-логического мышления, чем пациенты второй группы Вместе с тем, у пациентов с шизотипическим расстройством установлены более высокие показатели зрительно-моторной координации, а также высокие показатели пространственного, конструктивного мышления, требующие хорошего развития пространственного анализа и синтеза (показатели выполнения субтеста «Кубики» М2=13,4±0,6 против М1=12,1±0,5 при том, что значения шкальных оценок лежат в границах «высокой нормы» и не снижены у пациентов обеих групп). Соотношение результатов выполнения всех представленных методик позволило установить, что у пациентов с параноидной шизофренией уровень вербального абстрактно-логического мышления в целом не нарушен (сохранен), у них наблюдается высокий уровень пространственного мышления и конструктивного праксиса, но одновременно нарушена перцептивная сторона аналитико-синтетической деятельности, что проявляется ухудшением способности к дифференциации и анализу структуры, к анализу сложных количественных и качественных динамических закономерностей, а также очевидно и грубо снижен уровень ассоциативного образного мышления.
Выводы по результатам исследования: Больные параноидной формой шизофрении в отличие от пациентов с шизотипическим расстройством:
-
• хуже дифференцируют и анализируют структуру (целое) по ее основным частям, труднее уясняют взаимосвязь между этими частями (элементами), плохо идентифицируют недостающую часть структуры;
-
• проявляют меньшую способность постигать симметричность отношений между фигурами и сниженную способность к линейной дифференциации и формированию суждений и умозаключениям на основе линейных взаимосвязей;
-
• испытывают затруднения в проявлениях динамической (быстрой) наблюдательности и в прослеживании закономерных изменений, в определении логического принципа непрерывного развития фигур в пространстве;
-
• хуже прослеживают закономерную последовательность и чередование фигур в целостной структуре, допускают ошибки при попытке оценки количественных и качественных изменений согласно заданному принципу;
-
• менее эффективны при определении закономерностей сложного количественного и качественного развития кинетических, динамических рядов, в проявлениях способности к абстрагированию и динамическому синтезу;
-
• менее успешны при дифференцировании элементов и в выявлении связи между элементами «гештальта», при установлении недостающей часть структуры;
-
• хуже умеют находить аналогии между парами фигур, затрудняются в выделении и использовании принципов прогрессивных изменений и перегруппировки фигур в матрице;
-
• в меньшей мере способны к систематизированной, планомерной, методичной интеллектуальной деятельности (требующей сохранности логичности мышления);
-
• имеют более грубое снижение уровня образного, ассоциативного мышления.
Заключение. Таким образом, для пациентов с параноидной шизофренией характерны:
высокий уровень абстрактно-логического мышления (отсутствуют нарушения в оперировании вербальными понятиями), высокие показатели пространственного мышления и конструктивного праксиса, требующие хорошего развития пространственного анализа и синтеза, показатели зрительно-моторной координации. При этом использование мышления в целенаправленной интеллектуальной деятельности ими затруднено.
Нарушения мышления у пациентов с параноидной шизофренией связаны, в первую очередь, с неумением эффективно использовать, применять логико-мыслительные операции при решении практических задач.
В результате неадекватного использования мыслительных операций снижаются интеллектуальные показатели (в виде ухудшения продуктивности интеллектуальной деятельности). Такого рода снижение интеллектуальных показателей у больных шизофренией по сравнению со здоровыми обнаруживали и другие авторы, например, А. Reichenberg et P.D. Harvey (2007). В частности, J. Gold et P.D. Harvey предложили типичный «когнитивный профиль» больных шизофренией, представляющий собой усредненные показатели различных нейрокогнитивных тестов. Однако этот профиль отражал в основном лишь интеллектуальное снижение таких больных – до 10 IQ-баллов от нормы интеллектуального коэффициента по методике Векслера (цит. по: Аведисова, Вериго, 2001).
Вместе с тем, при дифференциальной диагностике мышления у пациентов шизофренического спектра представляется недостаточным использование только количественного подхода для измерения структурных изменений. Необходим качественный и системный анализ когнитивных нарушений познавательных процессов, который позволил бы составить более развернутую, структурную картину нарушений и соответствовал принятому в отечественной патопсихологии подходу к изучению мышления при шизофрении.
Список литературы Мышление при параноидной шизофрении и шизотипическом расстройстве: сравнительное исследование
- Аведисова, А.С. Шизофрения и когнитивный дефицит/А.С. Аведисова, Н.Н. Вериго//Психиатрия и психофармакотерапия. -2001. -Т. 3, № 6. -С. 5.
- Говорин, Н.В. Способ оценки эффективности лечения больных шизофренией/Н.В. Говорин, А.Н. Панина//Пат. 2336019 Российская Федерация, 2007.
- Ершов, Б.Б. Продуктивность познавательной деятельности больных шизофренией и органическими психическими расстройствами: автореф. дис. … канд. психол. наук/Б.Б. Ершов. -СПб., 2011. -27 с.
- Ершов, Б.Б. Нарушения перцептивной организации психической деятельности больных шизофренией/Б.Б. Ершов//Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». -2011. -Вып. 12. -№ 5 (222). -С. 107-114.
- Зейгарник, Б.Ф. Патопсихология: основы клинической диагностики и практики: учеб. пособие/Б.Ф. Зейгарник. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Изд-во Московского университета, 1986. -287 с.
- Зотов, М.В. Механизмы регуляции когнитивной деятельности при воздействии стрессогенных факторов (в норме и патологии): автореф. дис. … д-ра психол. наук/М.В. Зотов. -СПб., 2011. -52 с.
- Зотов, М.В. Когнитивные механизмы низкой эффективности выполнения сенсомоторных задач при шизофрении/М.В. Зотов, К.А. Долбеева, Н.Е. Андрианова, В.М. Петрукович//Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». -2013. -Т. 6, № 3. -С. 67-74.
- Исаева Е.Р. “Executive functions” и высшие психический функции -новая парадигма или хорошо забытое старое?//Междисциплинарный подход в понимании и лечении психических расстройств: миф или реальность: сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 14-17 мая 2014 г., Санкт-Петербург/Е.Р. Исаева; под общ. ред. Н.Г. Незнанова. -СПб.: Изд-во ООО «Альта Астра», 2014. -Ч. 2. -С. 273-275.
- Кобзова, М.П. Когнитивные и личностные особенности у юношей с шизотипическим расстройством, заболевших в подростковом возрасте: дис. … канд. психол. наук/М.П. Кобзова. -СПб., 2014. -156 с.
- Критская, В.П. Патопсихологический синдром в системном исследовании патологии психической деятельности/В.П. Критская, Т.П. Мелешко//Психологический журнал. -2004. -№ 6. -С. 53-62.
- Лебедева, Г.Г. Когнитивный дефицит при параноидной шизофрении и шизотипическом расстройстве личности: сравнительное исследование когнитивных нарушений/Г.Г. Лебедева, Е.Р. Исаева, А.В. Степанова//Вестник ТГПУ. -Вып. 5 (133). -2013. -Томск: Изд-во ТГПУ, 2013. -С. 155-160.
- Лурия, А.Р. Основы нейропсихологии/А.Р. Лурия. -М.: Издательский центр «Академия», 2003. -384 с.
- Магомедова, М.В. О нейрокогнитивном дефиците и его связи с уровнем социальной компетентности у больных шизофренией/М.В. Магомедова//Социальная и клиническая психиатрия. -2000. -№ 1. -С. 92-98.
- Медицинская психология: Конспект лекций/сост. С.Л. Соловьева. -М.: ООО «Издательство ACT»; СПб.: ООО «Сова», 2004. -154 с.
- Мухитова, Ю.В. Когнитивные дисфункции при разной степени выраженности психического дефекта у больных шизофренией: автореф. дис. … канд. психол. наук/Ю.В. Мухитова. -СПб., 2013. -24 с.
- Поляков, Ю.Ф. Патология познавательной деятельности при шизофрении/Ю.Ф. Поляков. -М.: Медицина, 1974.
- Прогрессивные матрицы Равена: метод. рек./сост. и общ. ред. О.Е. Мухордовой, Т.В. Шрейбер. -Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2011. -70 с.
- Пушкина, Т.П. Медицинская психология/Т.П. Пушкина. -Новосибирск: Научно-учебный центр психологии НГУ, 1996. -47 с.
- Мухитова, Ю.В. Нарушение мышления больных шизофренией: состояние проблемы и перспективы исследования/Ю.В. Мухитова//Стенограмма аспирантского семинара 15 февр. 2011 г. -http://www.pandia.ru/text/77/454/29216.php (дата обращения 18.08.2014)
- Филимоненко, Ю.И. Тест Векслера: диагностика уровня развития интеллекта (детский вариант): методическое руководство/Ю.И. Филимоненко, В.И. Тимофеев. -СПб.: Иматон, 2006. -112 с.
- Херсонский, Б.Г. Метод пиктограмм в психодиагностике/Б.Г. Херсонский. -СПб.: Речь, 2003. -120 с.
- Чередникова, Т.В. Исследование структуры расстройств мышления при шизофрении с позиций концептуальной модели психики Л.М. Веккера/Т.В. Чередникова//Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». -2010. -Вып. 17. -№ 9 (193). -С. 39-46.
- Чередникова, Т.В. Информационная модель мышления Л.М. Веккера в исследованиях расстройств мышления при шизофрении методом факторного анализа/Т.В. Чередникова//Психологические исследования: электрон. науч. журн. -2011. -№ 3(17). -URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 25.07.2014). 0421100116/0025.
- Чередникова, Т.В. Современные нейрокогнитивные теории нарушений мышление при шизофрении (обзор зарубежной литературы)/Т.В. Чередникова//Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». -2011. -Вып. 12. -№ 5 (222). -С. 95-101.
- Чередникова, Т.В. Специфика связей с интеллектом различных нарушений мышления при шизофрении и экзогенно-органических заболеваниях головного мозга/Т.В. Чередникова//Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». -2014. -Т. 7, № 1. -С. 122-129.
- Green, M.F. Neurocognitive Deficits and functional outcome in schizophrenia: Are We Measuring the “Right Stuff”?/M.F. Green, R.S. Kern, D. Braff, J. Mintz//Schizophr. Bull. -2000. -Vol. 26. -P. 119-136.
- Reichenberg, A. Neuropsychological impairments in schizophrenia: integration of performance based and brain imaging findings/A. Reichenberg, P.D. Harvey//Psychol. bull. -2007. -Vol. 133. -P. 833-858.