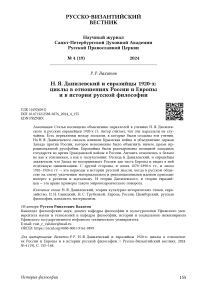Н. Я. Данилевский и евразийцы 1920-х: циклы в отношениях России и Европы и в истории русской философии
Автор: Вахитов Р.Р.
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 4 (19), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена объяснению параллелей в учениях Н. Я. Данилевского и русских евразийцев 1920-х гг. Автор считает, что эти параллели не случайны. Есть переклички между эпохами, в которые были созданы эти учения. На Н. Я. Данилевского оказала влияние Крымская война и объединение держав Запада против России, которое невозможно было объяснить ничем, кроме иррациональной русофобии. Евразийцы были разочарованы позицией западных государств во время Гражданской войны в России. Антанта относилась к белым не как к союзникам, а как к полуколонии. Отсюда и Данилевский, и евразийцы заключили, что Запад не воспринимает Россию как часть Европы и видит в ней отдельную цивилизацию. С другой стороны, и эпоха 1870-1890-х гг., и эпоха 1910-1920-х гг. - это периоды в истории русской мысли, когда в русском обществе на смену увлечению материализмом и революционными идеями приходит интерес к религии и идеализму. И теория Данилевского, и теория евразийцев - это яркие примеры такого мировоззренческого поворота.
Н. я. данилевский, теория культурно-исторических типов, евразийство, п. н. савицкий, н. с. трубецкой, европа, Россия, цымбурский, русская философия, идеализм, материализм
Короткий адрес: https://sciup.org/140308445
IDR: 140308445 | УДК: 1(470)(091) | DOI: 10.47132/2588-0276_2024_4_155
Текст научной статьи Н. Я. Данилевский и евразийцы 1920-х: циклы в отношениях России и Европы и в истории русской философии
В 2022 г. был 200-летний юбилей выдающегося русского ученого, философа культуры и истории, публициста и общественного деятеля Николая Яковлевича Данилевского (1822–1885). На конференциях и круглых столах, во множестве юбилейных публикаций было немало сказано об актуальности его идей, об их влиянии на российскую культуру, на различные течения русский философии. Естественно, говорилось и об отношениях теории Н. Я. Данилевского и евразийцев 1920-х гг., наследие которых составляет важную и во многом до сих пор актуальную часть творческой сокровищницы Русского зарубежья1.
Преемственность между идеями Данилевского и евразийцев не подлежит сомнению. Основоположники евразийства сами неоднократно указывали на Н. Я. Данилевского и его ученика Владимира Ивановича Ламанского (1833–1914) как на своих идейных предшественников. Более того, «отец евразийства» Петр Николаевич Савицкий в программной статье «Евразийство» (1925) признавал, что видение в России особого географически-культурного мира — это не заслуга евразийцев. Задолго до них это открытие было произведено В. И. Ламанским, только он назвал этот мир не «российско-евразийским», а «греко-славянским». П. Н. Савицкий писал: «Необходимость различать в основном массиве земель Старого Света не два, как делалось доселе, но три материка — не есть какое-либо „открытие“ евразийцев; оно вытекает из взглядов, ранее высказывавшихся географами, в особенности русскими (например, проф. В. И. Ламанским в работе 1892 г.). Евразийцы обострили формулировку; и вновь „увиденному“ материку дали имя, ранее прилагавшееся иногда ко всему основному массиву земель Старого Света, к старым „Европе“ и „Азии“ в их совокупности»2.
Получается, что евразийцы лишь отметили славяно-туранскую специфику этой локальной культуры, Ламанскому же признать это мешала его приверженность панславизму.
Тезис о том, что Уральские горы не могут считаться границей между европейской и азиатской Россией, который тоже обычно приписывают евразийцам, также встречается уже в «России и Европе» Данилевского. Там мы читаем: «Надел, доставшийся русскому народу, составляет вполне естественную область <…>, резко означенную со всех сторон (за некоторым исключением западной) морями и горами. Область эта перерезывается на два отдела Уральским хребтом, который, как известно, в своей средней части так полог, что не составляет естественной этнографической перегородки»3.
Наконец, толчком к образованию евразийства стала критика европоцентризма в книге князя Николая Сергеевича Трубецкого «Европа и человечество» (1920). В ней князь Н. С. Трубецкой отрицает существование единой общечеловеческой цивилизации и общечеловеческого прогресса. Под видом «общечеловеческой», утверждает Н. С. Трубецкой, европейцы «протаскивают» везде свою собственную культуру на современном ее этапе, а под видом «универсального прогресса» — прогресс своей культуры. Вместе с тем, европейская культура не хуже и не лучше других, она — одна из многих локальных культур мира, сформировавшихся под воздействием уникальных историко-географических условий, которых нет в других регионах планеты. «Европейская культура не есть культура человечества, — пишет Трубецкой. — Это есть продукт истории определенной этнической группы. Германские и кельтские племена, подвергшиеся в различной пропорции воздействию римской культуры и сильно перемешавшиеся между собой, создали известный общий уклад жизни из элементов
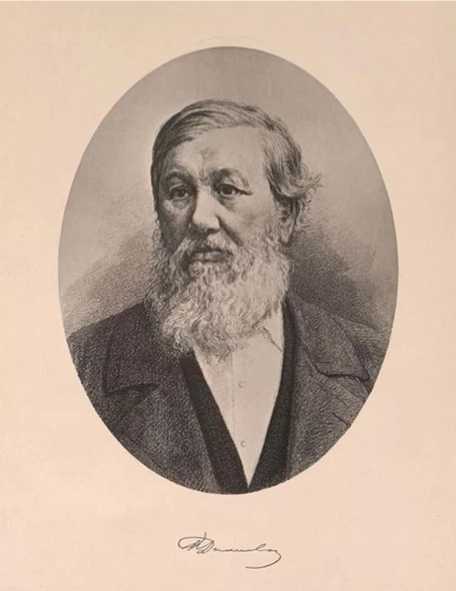
Николай Яковлевич Данилевский. Литография, вторая половина XIX в.
своей национальной и римской культуры»4.
Однако для русского образованного человека начала ХХ в. такая постановка вопроса содержала в себе мало нового. Ведь почти то же самое более чем за 50 лет до Трубецкого писал Н. Я. Данилевский в книге «Европа и человечество». В главе третьей этой книги русский философ отрицал общечеловеческий характер культуры Европы и сводил ее лишь к одной из культур мира — к локальной культуре романо-германских народов: «Несправедливо было бы, однако же, думать, что Европа составляет поприще человеческой цивилизации вообще или, по крайней мере, всей лучшей части ее; она есть только поприще великой германо-романской цивилизации, ее синоним…»5 Следующая же, четвертая глава этой книги так и называется «Цивилизация европейская тождественна ли с общечеловеческую?». Там Данилевский снова дает отрицательный ответ на этот вопрос и доказывает, что неверно, будто одна лишь западная цивилизация несет миру прогресс, а, например, восточная — юдоль застоя и реакции. В том же Китае были изобретены компас, порох, книгопечатание бумага, указывает философ. Все это предвосхищает рассуждения Н. С. Трубецкого из «Европы и человечества» о том, что живопись аборигенов островов Тихого океана не уступает искусству европейских футуристов, а структура семьи даже превосходит европейскую по своей сложности.
Итак, как минимум, Данилевский и евразийцы согласны в том, что Россия — это не Европа, а ядро самобытной цивилизации, и что Европа — лишь одна из цивилизаций мира и ее культура не может претендовать на статус общечеловеческой. Можно найти при желании и другие совпадения (и, разумеется, отличия). На эти совпадения постоянно указывают в современных исследованиях евразийства6, а к поиску их обычно и сводятся работы об отношениях теорий Данилевского и евразийцев.
Вместе с тем представляется, что простое механическое обнаружение подобных параллелей мало что дает в эвристическом плане. Параллели и совпадения могут и ничего не значить, и, наоборот, за некоторыми различиями может скрываться сущностное сходство. Нужно взглянуть на вещи глубже, учесть историкополитический и историко-философский контекст, попытаться увидеть причины этих сходств.
Именно этим я и намерен заняться в своей статье.
2. Война с «коллективным Западом»:
переклички политических эпох
Прежде всего, необходимо обратить внимание на историко-политический контекст возникновения концепций Данилевского и евразийцев. Как только мы поставим этот вопрос, сразу становится очевидным, что и в первом, и во втором случае появлению этих концепций предшествовала большая война России с несколькими, объединившимся в коалицию, державами Запада и подспудное противостояние другим. В итоге почти всегда в этих случаях можно говорить о противостоянии практически всему «коллективному Западу». Причем для России такая позиция стран Запада всегда была еще и неожиданной и воспринималась как предательство, поскольку до этого правящий слой российского государства вполне искренне воспринимал себя как часть европейской, западной цивилизации.
В самом начале «России и Европы» Данилевский признается, что именно поведение европейских держав перед Крымской войной заставило его задуматься об отношениях России и Европы, стало «исходной точкой» его исследования. Как же повели себя европейские державы и общественность Европы? Данилевский объясняет: «Одиннадцать лет перед этим (перед аннексией Пруссией и Австрией части Дании, которая не вызвала возмущения у других стран Европы. — Р. В. ) Россия, государство, также причисляемое к политической системе европейских государств… оскорбляется в самых священных своих интересах (в интересах религиозных) Турцией — государством варварским, завоевательным… не включенным в политическую систему Европы»7. По Данилевскому, Россия требовала от Турции всего лишь соблюдения прав религиозных меньшинств, что Турция и сама обязывалась делать в согласии с Кучук-Кайнарджийским мирным договором. Но Англия и Франция усмотрели в этом агрессивные намерения России и объявили ей войну! А затем «в войну вовлекается Сардиния, Австрия принимает угрожающее положение, и, наконец, вся Европа грозит войной, если Россия не примет предложенных ей невыгодных условий мира. Так действуют правительства Европы; общественное же ее мнение еще более враждебно…»8
Данилевский не может это объяснить ничем, кроме как внутренним убеждением стран — членов европейской цивилизации, что Россия к этой цивилизации не принадлежит, что она представляет собой отдельную культуру (или значительную ее часть), которая строится на иных, неевропейских, непонятных Европе ценностях: «Европа <…> видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, a вместе с тем такое, что не может служить для нее простым материалом, из которого она могла бы извлекать свои выгоды, как извлекает из Китая, Индии, Африки…»9 Именно в этом причина иррациональной русофобии Запада и его «двойных стандартов» в отношениях с Россией.
Но то же самое можно сказать про евразийцев. Еще в 1919 г., до создания евразийства, П. Н. Савицкий, бывший еще замминистра в правительстве Деникина в Екатеринодаре, в брошюре «Очерки международных отношений» высказывал разочарование в отношении «союзников». Савицкий характеризовал борьбу между большевиками и белыми как имеющую значение для всей Европы и всего мира: «Мы можем сказать, что вопрос о том, быть ли историкоиндивидуалистическому или абстрактно-коллективистическому принципу основной исходной точкой дальнейшего исторического развития, этот вопрос русский народ в своей гражданской войне разрешает не только за себя, но и за всю Европу, а может быть, и за весь мир. Тем самым русский народ в определенном смысле оказывается впереди Запада…»10 С плохо скрываемым негодованием Савицкий спрашивает: «Почему же, если изложенное в предыдущих строках действительно приближается к истине, страны Запада, в частности Франция, столь недостаточно интересуются Россией и, видимо, вовсе не думают об ее предполагаемом мировом значении?»11 За этими словами стоит личный опыт Петра Николаевича. Он как представитель правительства Деникина был командирован во Францию и в США, где он просил помощи для белых у западных правительств, но в помощи было отказано.
Про Парижскую конференцию 1919 г. Савицкий пишет с не меньшей горечью: «Державы, великие и малые, собрались в настоящий момент на Мирную Конференцию и решают на ней „судьбы мира“. Все народы имеют там свой голос, кроме побежденных: судьбы последних определяются без их участия. Так определялась судьба Германии… таким же образом определяется судьба России. Представителя России — ни национальной, ни советской — на Мирной Конференции нет; зато на ней уже признана независимость Финляндии, одной из составных частей Империи Российской… Так решают победители»12. Обратим внимание: державы-победительницы не пригласили на мирную конференцию не только большевиков, которые отказались от союзнических обещаний Антанте, но и белых, которые, напротив, этим обещаниям были верны, которые потому отделились от России большевиков, создав «белую Россию», что были возмущены их желанием заключить мир с Германией! В связи с этим у Савицкого создавалось впечатление, что большевики не так уж неправы, когда расценивали «помощь белым» со стороны Антанты как интервенцию Антанты в Россию с целью ее ослабить, а затем колонизировать13. Использовав белых для борьбы с немцами, коллективный Запад себя одного стал считать победителем и начал раздел мира без приглашения представителей «национальной России». Фактически Савицкий намекает на то, что Антанта отнеслась к России не как к своей союзнице — европейской державе, а как к полуколонии, обреченной быть объектом, а не субъектом международной политики.
Другой основатель евразийства — Н. С. Трубецкой — пишет о том же в статье «Русская проблема» уже в эмиграции, в 1922 г.: «Война смыла белила и румяна гуманной романо-германской цивилизации, и теперь потомки древних галлов и германцев показали миру свой истинный лик, — лик хищного зверя, жадно лязгающего зубами… Огромная Россия <…> осталась „ничьей“. Пока ее не поделят или не отдадут одному из романо-германских зверей, мировую войну нельзя считать закончен-ной…»14 Есть у Трубецкого в этой статье и ответ на вопрос, почему «союзники» так дозировано помогали Деникину и Врангелю, хотя те соблюдали верность Антанте и почему в то же время иностранцы первоначально заигрывали с большевиками: «Иностранцам, безусловно, выгоднее „приручить“ советскую власть, чем свергать ее и заменять какой-то новой»15.
Савицкий и Трубецкой, подобно Данилевскому, в конечном итоге соглашаются с мнением: Запад прав в том своем ощущении, что Россия — не Европа, а иная, особая цивилизация. Они называют ее самобытный культурно-географический мир «Евразия». П. Н. Савицкий в программной статье «Поворот к Востоку» из сборника «Исход к Востоку» утверждает, что до войны и революции Россия воспринималась и воспринимала себя как европейское государство, а после — предстала как чуждая Европе культура: «Россия перед войной и революцией „была современным цивилизованным государством западного типа, правда, самым недисциплинированным и беспорядочным из всех существующих“ (Г. Д. Уэльс). Но в процессе войны и революции „европейскость“ России пала, как падает с лица маска»16. Савицкий констатирует: «Россия есть не только „Запад“, но и „Восток“, не только „Европа“, но и „Азия“, и даже вовсе не Европа, но „Евразия“»17.
Итак, и появлению концепции Данилевского, и появлению концепции евразийцев предшествовал конфликт с объединенным Западом или со значительной его частью. В случае Данилевского это война с Англией, Францией и Турцией (Крымская война), в случае евразийцев — война с Германией, Австрией и Турцией, которую белая Россия продолжала и после 1917 г. и борьба Антанты с «красной Россией». Причем в XIX в. Австрия формально не участвовала в войне, но фактически была враждебна России, а в ХХ в. страны Антанты после 1917 г. объявили себя помощниками белых, а на самом деле стремились максимально ослабить обе стороны и поставить Россию под свой контроль. Это подтолкнуло и Данилевского, и евразийцев к мысли о том, что Запад относится к России как к враждебной и чужой цивилизации и, возможно, так оно и есть, и Россия — это не Европа, а особый мир.
3. Евразийские интермедии конца XIX и начала ХХ вв.: совпадение подциклов «похищения Европы»
Сходства между теорией Данилевского и евразийством не случайны, они, как видим, связаны, хоть и не напрямую, со схожестью исторических ситуаций, в которых родились эти концепции. Чтобы лучше понять суть этих ситуаций, обратимся к учению В. Л. Цымбурского.
Российский геополитик Вадим Леонидович Цымбурский (1957–2009) считал18, что в истории отношений России и Запада чередуются циклы, которые он поэтически называл «похищениями Европы», и которые сводятся к периодам вмешательства России в европейскую политику и агрессивных ответов Европы. Таких периодов или подциклов (Цымбурский именовал их «ходами») четыре:
-
1) вестернизация России и ее продвижение в сторону Европы с захватом «проливов» (лимитрофов) и части европейских территорий, вступление в союз с одной из европейских группировок, борющейся с другими;
-
2) экспансия части или даже всей «коллективной Европы» в Россию;
-
3) победа России, ответная экспансия, превращение России в субъекта европейской политики, в «международного жандарма»;
-
4) ответ Европы, объединение европейских держав для сдерживания России, вытеснение России из европейской политики.
Завершается все «евразийской интермедией» — интересом загнанной в «свои пределы» России к своим азиатским соседям и расширением в Азию.
Рассмотрим их на историческом материале.
В XVIII–XIX вв. первый период включал в себя временной промежуток с Северной войны, которую начал Петр, до «Тильзитского мира», заключенного Александром Первым и последующего сближения с Англией. Сюда относились и завоевание Прибалтики и Финляндии, и Семилетняя война, и раздел Польши, и итальянские походы Суворова.
Второй период — это вторжение в Россию наполеоновской Французской империи.
Третий — победа над Наполеоном, «освободительный поход» русской армии в Европу, присоединение Польши, гегемония России над германскими княжествами через систему Священного Союза, подавление венгерского восстания.
Четвертый — вступление Англии и Франции в Крымскую войну на стороне Турции, «враждебный суверенитет» Австрии, поражение России на Черном море, война на Балканах, «обуздывание» России при помощи Берлинского конгресса, наконец, закрытие для России путей на Запад и Юго-Запад вследствие союза Германии, Австрии и Италии.
Затем для России, по Цымбурскому, начинается евразийская интермедия, продлившаяся до начала 1900-х. Россия, уже присоединившая Среднюю Азию, обращается к Тихоокеанскому региону (Япония и Китай).
После вступления России в Антанту начинается новый цикл отношений России и Европы («похищения Европы»).
Первый его период занимает начало 1900-х — 1916 г. — со вступления России в Антанту до ряда побед российской армии на западном фронте.
Второй период занимает 1918–1919 гг., когда Германия получила часть земель бывшей Российской империи по Брестскому миру, а Антанта фактически поставила под контроль белое движение на юге России. Цымбурский называет это очередным «европейским нашествием на Россию» и оговаривается: «Только теперь против нас шла не Пан-Европа, сплоченная вокруг озлившегося на нас гегемона: Россию пытались раскроить два лагеря, продолжавшие между собою ту европейскую войну, из которой большевики рассчитывали эмигрировать восвояси»19.
Третий период начался в 1919 и продолжался до 1920 г., то есть до попытки большевиков организовать поход в Польшу, а затем дальше в Европу (советско-польская война 1920 г.). Это аналог «освободительного похода» русской армии 1812–1814 гг., только не удавшегося (Цымбурский называет это «абортированной попыткой похищения Европы»). Советская Россия, правда, вернула себе все территории, которые были ею потеряны по Брестскому миру, и отразила интервенцию, но революции в Венгрии и Баварии были подавлены, поход Красной армии в Польшу провалился, образование «европейского Советского Союза» сорвалось.
Четвертый период продолжался до 1923 г., то есть до поражения коммунистических революций в Германии и Болгарии. Польша была поддержана Антантой (как Турция — Англией и Францией в Крымской войне). Европа объединилась для борьбы с коммунистическими революциями на ее территории. Красная экспансия была остановлена, и Советский Союз обращается на восток — к Турции, Закавказью, Персии, а чуть позже — к Китаю и Манчжурии. Начинается евразийская интермедия первой половины ХХ в., которая продлилась с середины 20-х до конца 30-х гг.
Возвращаясь к концепциям Данилевского и евразийцев, мы, вооруженные схемой Цымбурского, теперь понимаем, что появление этих концепций пришлось не просто на схожие политические эпохи, а на конец третьего периода и на начало евразийской интермедии в соответствующем цикле отношений России и Европы. Данилевский написал «Россию и Европу» в 1869 г., за восемь лет до начала Балканской войны и за девять лет до Берлинского конгресса. Первый евразийский сборник — «Исход к Востоку» вышел в 1921 г. — через год после советско-польской войны и за два года до неудачной попытки коммунистической революции в Германии.
Это были эпохи не только разочарования России в Западе и осознания его враждебности, но и время отказа от экспансии в Европу, от участия в западноевропейской политике и обращения России к Югу и Востоку. Выражаясь на манер В. Эрна, время заканчивало европействовать и начинало евразийствовать.
4. Циклы возвращения к идеализму в русской философии.
1870–1890-е: от нигилизма к неославянофильству
Вместе с тем очевидно, что прямое влияние политики на философию и науку вряд ли возможно, если перед нами настоящие философы и ученые, а не конъюнктурщики. Настоящий философ и ученый устремлен к поиску истины, решения той или иной проблемы, к приросту объективного, достоверного знания. И потому философия и наука имеют свои собственные законы и правила развития.
Это очень хорошо показал А. Ф. Лосев на примере анализа античной философии в своей «Истории античной эстетики». Лосев утверждает там, что, конечно, глупо считать, что развитие рабовладельческого хозяйства, отношения рабовладельцев и рабов в процессе производства оказывали непосредственное влияние, например, на философию Плотина. Плотин был чистый ученый, его не интересовала прибыль рабовладельческого производства, ему не было дела до эффективности труда рабов. Плотина волновала структура интеллигибельного мира, о котором хозяева-рабовладельцы и, тем более, их рабы даже не помышляли. Тем не менее, только лишь в таком обществе, где есть рабовладельцы и рабы и где существует крупное рабовладельческое хозяйство, возможно было такое понимание идей и космоса, какое мы находим у Платона и Плотина. Рабовладельческое общество было одним из условий возникновения и развития философии платонизма и неоплатонизма. В обществе феодальном или буржуазном подобная философия немыслима.
То же касается и войны Запада против России и теорий Данилевского и евразийцев. Сами эти конфликты не могли породить данные теории. Теории эти возникли, поскольку их создатели решали сугубо интеллектуальные проблемы, которые были поставлены их предшественниками. Политические события лишь создали условия для наиболее благоприятного развития определенной линии философии. Но сама эта линия была порождена внутренней логикой истории русской философии. Подобно тому, как в политических отношениях России и Европы были циклы и подциклы, предполагающие сближение с Западом, затем конфликт с ним и отдаление от него, в истории русской философии были тоже свои философские периоды, предполагающие увлечение западным материализмом, затем отказ от него и попытки построить идеалистическую и самобытную философию идеалистического и славянофильского толка. На это, кстати, обратили внимание евразийцы, которые еще в предисловии к «Исходу к Востоку» писали об «эпохах науки»20 и «эпохах веры».
Эпохе Данилевского и его соратников-«почвенников» — Страхова, Леонтьева и др. (1870–90-е), как известно, предшествовала эпоха материалистов и позитивистов-шестидесятников XIX в. — Д. И. Писарева, Н. Г. Чернышевского и др. (1850–1860-е). Они были убежденными западниками, верили в общечеловеческий прогресс, лидером которого они видели Запад, а Россию воспринимали лишь как отсталую провинцию Европы21.
Но вскоре в развитии русской мысли наступает перелом. После окончания «оттепели» Александра Первого (которая продолжалась с 1856 по 1866 г.)22 на сцену русской философии выходит поколение мыслителей, писателей, общественных деятелей, публицистов, которые некогда увлекались материализмом, западничеством, социализмом, но затем вернулись к православию, идеализму. С 1870-х они, чьи голоса в 1860-е звучали как маргинальные, становятся постепенно властителями дум значительной части русской общественности и это продолжалось вплоть до конца 1890-х (до конца царствования императора Александра Третьего). Данилевский был лишь одним из ярчайших представителей этого поколения, среди других следует назвать Ф. М. Достоевского, К. Н. Леонтьева, Н. Н. Страхова. Поскольку же ближайшим к ним образцом национальной идеалистической и православной философии были славянофилы 1830– 40-х гг., то это было и своеобразное возвращение к славянофильству, но уже на совсем другом уровне развития и с использованием других гносеологических практик23.
Крупный современный исследователь творчества Н. Я. Данилевского Сергей Иванович Бажов в своей монографии «Философия истории Н. Я. Данилевского»24 описывает этот путь на примере создателя теории культурно-исторических типов. Как уже говорилось, в молодости Данилевский отдал дань увлечения идеями французского социализма в версии Ш. Фурье (хотя уже тогда он тяготел к консерватизму и был скептически настроен к политической активности и к революции). Затем, вместе с некоторыми другими участниками кружка петрашевцев, Данилевский был арестован; в тюрьме он, подобно Достоевскому, пережил мировоззренческий переворот, под влиянием чтения Библии, вернулся к православию, в духе которого был воспитан с детства. Возможно, тогда Данилевский и пришел к выводу, что французский социализм не может быть универсальной доктриной, что он не подходит для русского народа, и обратился к идеям славянофилов. Бажов пишет, что непосредственных свидетельств духовного переворота Данилевского и его перехода от фурьеризма к своеобразному славянофильству не осталось, но в этом смысле можно трактовать некоторые места из «России и Европы»: «Не исключено, что в главе VI книги „Россия и Европа“, где речь идет о кризисе веры в то, что <…> социалистический проект интерпретируется как попытка „найти общие формы общественного быта, в своем роде тоже абсолютные, могущие осчастливить все человечество, без различия времени, места или племени“, высказываются идеи, сформировавшиеся в пору духовного разрыва с утопическим социализмом Ш. Фурье»25. К этому можно лишь добавить, что Данилевский был разочарован не столько в социализме, сколько в его революционных разновидностях, возобладавших на Западе. Если под социализмом понимать объединение в «трудовую ассоциацию», то он в России всегда был в виде общины, и именно ее славянофилы считали экономической опорой славянской цивилизации. Данилевский пишет о западном социализме: «Если бы он ограничивался приглашением мелких землевладельцев соединять свою собственность в общинное владение, так же точно, как он приглашает фабричных работников соединить свои силы и капиталы посредством ассоциаций, то в этом не было бы еще ровно ничего преступного или зловредного»26.
Еще одна и, вероятно, главная причина разочарования поколения, к которому принадлежал Данилевский, в нигилизме и материализме и в переходе их к славянофильским воззрениям, приоткрывается самим Николаем Яковлевичем в статье «Происхождение нашего нигилизма» (где, возможно, он имеет в виду и себя периода своей юности). Он упрекает там «нигилистический материализм» во внутренней нелогичности. Ведь из самих его основ, сводящих человека к животному с примитивными инстинктами, вытекает вовсе не идея жертвенной любви, а та мещанская подлость и грызня, которую сами нигилисты всей душой презирали. Данилевский заявляет: «они <…> (нигилисты — Р. В. ) свернули с настоящего пути нигилизма куда-то в сторону, прицепили к своим метафизическим основам совершенно не идущий к ним и чуждый хвост, в котором, скажу не обинуясь, все-таки, по счастливой непоследовательности человеческой природы, стали видеть сущность и главное содержание своей новой, собственно уже псевдонигилистической веры»27. Это напоминает шуточное рассуждение В. С. Соловьева о том, что русский нигилизм сводился к формуле: «мы произошли от обезьян и поэтому должны любить друг друга».
Вывод Данилевского очевиден: отрицание капитализма из нравственных соображений требует в качестве теоретической базы не материализма, а христианской этики и поэтому славянофилы были правы, связывая общину с духом православия.
При этом важно отметить, что, осознав себя в определенной степени духовным наследником славянофилов, Данилевский не отрекается от той высокой оценки науки и ее значения для философии, которые он имел, будучи позитивистом и материалистом. Данилевский недоволен тем, что славянофилы были всего лишь мистиками-идеалистами в духе немецкой романтической метафизики и убежден, что тезисы славянофильства нуждаются в научном обосновании. С. И. Бажов отмечает: «Автор „России и Европы“ полагал, что доктрина славянофильства в большей мере представляет собой выражение „требований народного чувства“ и не содержит исчерпывающих ответов на адресованные ее адептам критические доводы „просвещенного разума“. Дать исчерпывающий рациональный ответ на эти доводы — именно такую задачу ставил перед собой Н. Я. Данилевский»28. Можно указать и еще на один важный вывод исследователя: «Выше уже указывалось на присущую Н. Я. Данилевскому своеобразную „наукоцентристскую“ установку. Действительно, Н. Я. Данилевского отличало стремление к построению философско-исторической системы на научной основе. Этот пример лишь частное проявление разделяемого Н. Я. Данилевским общего принципа опоры философско-мировоззренческого мышления на науку, что сближало взгляды русского мыслителя с позитивизмом»29.
Собственно, и утверждение, что Россия не относится к европейской цивилизации и представляет собой ядро славянской цивилизации, Данилевский доказывает в «России и Европе» при помощи метода естественной классификации, который он позаимствовал из естественных наук, но считал общенаучным методом, применимым и в истории и социальной философии. Суть этого метода — в такой систематизации явлений окружающего мира (как природных, так и социальных), которая позволяла бы отличить естественную цельность, существующую в действительности, от искусственной, придуманной человеком и наличествующей лишь в его сознании. Как писал Данилевский: «Все предметы или явления одной группы должны иметь между собой большую степень сходства или сродства, чем с явлениями или с предметами, отнесенными к другой группе»30.
Используя этот метод, Данилевский показывает, что система, включающая в себя Европу как ядро, а Россию — как ее отсталую периферию, — это искусственная, ложная система, а система, видящая в России ядро самобытной славянской цивилизации — истинная.
Итак, переход поколения Данилевского от нигилизма и материализма к идеализму славянофильского толка и от западничества — к самобытничеству был связан не только с внешними событиями, но и с внутренней логикой развития философии, прежде всего, с переосмыслением идеалов социализма и нравственности, которые владели и умами нигилистов, но которые плохо согласовывались с их материалистическим кредо и требовали в качестве обоснования религию и философию идеализма. Вместе с тем «блуждание в краях материализма» не прошло даром и обогатило бывших его адептов научными методом, который они стали использовать для обоснования славянофильских тезисов.
5. Циклы возвращения к идеализму в русской философии: 1909–1920-е: от марксизма к идеализму и евразийству
В начале ХХ в. мы видим схожий процесс. На конец XIX — начало ХХ в. пришлось повсеместное увлечение русской молодежи марксистскими идеями. Эту эпоху можно ограничить следующими рамками: 1898 г. (создание РСДРП в Минске) — 1909 г. (выход в свет сборника «Вехи», показавшего разочарование части русской интеллигенции в революции). Это была новая «эпоха материализма», которая пришла на смену «эпохе идеализма» 1870–1890-х, когда было сильно влияние консерваторов Достоевского, Леонтьева, Страхова, Данилевского. Теперь кумиром интеллигентской молодежи стал марксизм. Марксизм рассматривался как последнее слово философской и экономической мысли Запада, марксизм предлагал ответы на мучительные вопросы, над которыми билось русское народничество, пытаясь их решить и в теоретическом, и в практическом планах. Наконец, марксизм обосновывал неизбежность революции, которая была путеводной звездой для русского освободительного движения, уже начиная с эпохи Герцена и Огарева. К марксизму в конце 1890-х примкнули и стали его оригинально развивать не только интеллектуалы, которым суждено было стать лидерами русской социал-демократии, но и те, кто потом составят цвет религиозной и идеалистической философии — С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, П. Б. Струве и др. Однако в начале ХХ в. в русской духовной жизни происходит своеобразное дежавю. Целый ряд упомянутых молодых марксистов публично отрекаются от этого материалистического мировоззрения, переходят на позиции идеализма и религии, о чем заявляют в сборниках — «От марксизма к идеализму» до знаменитых «Вех». Таким образом, молодые Булгаков, Бердяев, Струве, Франк повторяют судьбу молодых Достоевского, Данилевского, Леонтьева (и отсюда понятен их острый интерес к творчеству последних). Важно отметить, что тот же Булгаков, подобно Данилевскому, подчеркивает, что ему остались дороги идеалы социализма, но он не видит возможности обосновать принцип социальной справедливости, опираясь на материализм, а религия позволяет это сделать. В статье «О социальном идеале» из сборника «От марксизма к идеализму» он справедливо замечает: «Если принять классовый или групповой интерес нормой политики в качестве естественного факта, то мы получим таких норм столько, сколько существует отдельных классовых интересов. С этой точки зрения, не допускающей никакой оценки различных классовых интересов по их этической ценности, рабочий класс оказывается столь же прав в своих требованиях, как и классы землевладельцев и капиталистов…»31
Особенно массовым разочарование в революции, поворот к мистицизму, проблемам «экзистенциального характера», модернизму в искусстве, идеализму в философии стали после 1909 г. (этот поворот затронул даже самих марксистов, в среде которых появляются такие почитатели философа-идеалиста Маха как большевик Богданов). Началась новая «эпоха идеализма», которая продолжалась до 1920-х гг. включительно. Именно в это время будущие создатели евразийского движения (П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой, Г. В. Вернадский), по их признаниям, еще в России приходили к протоевразийским идеям, а потом, уже в эмиграции, давали их окончательные формулировки.
Евразийцы не принадлежали к поколению Булгакова и Струве, которые перешли от марксизма к идеализму. Сами евразийцы никогда не являлись марксистами и сразу пришли в политику и в общественную жизнь как сторонники консервативных, религиозных взглядов. Тем не менее, общеизвестен тот факт, что евразийство родилось как ответвление струвизма и что отец-основатель евразийства Петр Николаевич Савицкий был ближайшим соратником П. Б. Струве и до 1921 г. в целом разделял его философские и политические взгляды (даже в первых евразийских статьях Савицкого есть отголоски взглядов Струве, особенно, по экономическому вопросу). Поэтому мы вправе рассматривать евразийство в контексте перехода русской философии от эпохи материализма к эпохе идеализма.
Любопытно при этом, что так же, как Данилевский искал образец в эпохе, предшествовавшей господству материалистического нигилизма — в эпохе ранних славянофилов, Савицкий также общался к домарксистской эпохе русской мысли — к эпохе Данилевского и Леонтьева, которых он прямо называл предшественниками евразийцев. И точно так же, как Данилевский стремился обосновать тезисы славянофилов при помощи научного метода, Савицкий «поправляет» Данилевского и Ламанского, используя свой геополитический метод, теорию месторазвитий.
При этом, конечно, евразийцы предъявляли к марксизму свои претензии. Прежде всего, марксизм был неприемлем для них как атеистическое, богоборческое, ложное мировоззрение. В манифесте «Евразийство: опыт систематического изложения» (1926) марксизм прямо критикуется евразийцами как псевдорелигиозная доктрина: «Коммунисты верят в свою теорию, как в религиозную истину, т. е. в истину, связанную с самим Богом. Их вера, которую они по недоразумению и по слабому своему умственному развитию называют научным убеждением, объясняет их пафос и необычайную их энергию. Но так как абсолютным, или Богом, они считают идола, т. е. человеческую выдумку, вера их есть вера мниморелигиозная и не устоит перед верой религиозно подлинной…»32 В статье Н. Н. Алексеева «Евразийство и марксизм», где подробно рассматриваются отношения этих двух идеологий, говорится о том же: «Евразийство по основному своему духу — религиозно и метафизично, потому нет ничего более далекого от евразийства, чем материалистический антропологизм, — все равно, формулируется ли он в абстрактно-индивидуалистическом виде, как у Фейербаха, или принял социально-исторические формы, как у Маркса»33.
Далее, евразийцы отвергали марксизм как западническое мировоззрение. Об этом писал П. Н. Савицкий в своей статье «Два мира», где он указывает на существование в дореволюционной русской культуре двух линий — религиозной, са-мобытнической (славянофилы, Вл. Соловьев, Достоевский, Леонтьев, Данилевский) и материалистически-атеистической, прозападной (Писарев, Чернышевский, Лавров и т. д.). Марксисты, согласно Савицкому, продолжают линию Писарева и Чернышевского, и поэтому победа коммунистов — это победа наиболее радикальных старорежимных западников. Марксисты, согласно основателю евразийства, не имеют прямого отношения к духу русской революции, поскольку вершил ее народ и большевики лишь случайно оказались ее вождями. Русский же народ, по Савицкому, в массе своей, как был, так и остался верен ценностям православия. «В пределах судьбы человеческой есть показания и признаки, что не безверье, но Церковь возобладает в судьбах народных, — писал Савицкий. — Заложенное в большевизме торжество неверия и материализма протекает не благодаря, но вопреки духу лучших сынов народа. Наиболее творческие его сыны принадлежали не к преемству материализма и неверия, но к преемству православного учительства»34.
Разумеется, евразийцы задумывались о том, почему марксизм привлек, пусть на определенное время, некоторое количество русских людей. Их ответ состоял в том, что марксизм предлагал цельное, монистичное, хотя и ложное, мировоззрение, а ведь русский человек всегда стремился к цельной картине мира. Кроме того, марксизм был пронизан жаждой правды, социальной справедливости, социального творчества, что также отвечало характеру русского народа. Евразийцы и задумали свое учение как такое же цельное и социальное, но опирающееся не на экономический материализм, а на православную персонологию, как соразмерный ответ марксизму «справа».
6. Заключение
Подведем итоги. Переклички между концепциями Данилевского и евразийцев, на что часто указывают историки русской философии, не случайны. Они связаны с тем, что и Данилевский, и создатели евразийства творили в схожие эпохи политической и интеллектуальной истории России. В политике это было время разочарования в Западе, поскольку обнаружилось его лукавство и враждебность к России, в философии — поворот от материализма к идеализму и религии.
Впрочем, в этой статье мы только поставили проблему. В действительности дело не ограничивается параллелями между политической историей и философией. Схожие процессы происходили в других областях культуры. Так, «эпоха материализма»
1850–60-х гг. затронула и литературу, где на первый план выдвигаются Некрасов и Чернышевский и их школы; живопись, где начинает господствовать социальная, обличительная линия, представленная В. Г. Перовым. В 1870–1890-е поворот к вере, мистицизму, идеализму тоже происходит не только в философии. «Почвенничество» было и литературной школой (Ф. М. Достоевский, А. А. Григорьев). В 1880-е гг. достигает расцвета и высшего признания творчество А. А. Фета — поэта-антипода «шестидесятников», вдохновлявшегося идеализмом Шопенгауэра. В живописи на рубеже 1880–1890-х гг. появляются картины Н. Н. Ге на евангельские сюжеты — «Что есть истина?», «Повинен смерти», «Распятие».
С распространением марксизма в России (конец 1890-х — конец 1900) совпадает появление новой мощной струи реализма в литературе, писателей «телишевского кружка» (Горький, Скиталец, Вересаев, Короленко), реалистического уклона в творчестве некоторых символистов (А. А. Блок). А после первой русской революции вплоть до 1920-х гг. мы наблюдаем в литературе поворот к мистике, к модерну.
Безусловно, необходим синтетический обзор истории русской культуры второй половины XIX — первой половины ХХ в., с анализом внутреннего содержания, глубинного синтеза русской культуры того периода (что А. Ф. Лосев именовал «мифом культуры»). Тогда нам станут ясны и понятны значение и место в культуре таких концепций как теория Н. Я. Данилевского и классическое евразийство35.
Список литературы Н. Я. Данилевский и евразийцы 1920-х: циклы в отношениях России и Европы и в истории русской философии
- Бажов С. И. Философия истории Н. Я. Данилевского. М., 1997. 215 с.
- Булгаков С. Н. От марксизма к идеализму: Сб. статей (1896–1903). СПб., 1903. 347 с.
- Базанов П. Н. Культура русской эмиграции — гордость отечественной истории // Русско-Византийский вестник. 2020. № 4 (7). С. 11–24.
- Вахитов Р. Р. Два чуда при рождении мифа евразийства // Христианское чтение. 2021. № 2. С. 206–215.
- Гаврилов И. Б., Антонов С. В. Из истории антинигилистической полемики 1860‑х гг. // Русско-Византийский вестник. 2020. № 1 (3). С. 110–126.
- Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991. 574 с.
- Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М.: Институт русской цивилизации, 2008. 816 с.
- Евразийский сборник. Кн. VI. Политика. Философия. Россиеведение / Под ред. Н. Н. Алексеева, В. Н. Ильина, Н. А. Клепинина, П. Н. Савицкого и К. А. Чхеидзе. Прага: Политика, 1929. 81 с.
- Савицкий П. Н. Континент Евразия. М.: Аграф, 1997. 464 с.
- Селиверстов С. И. Протоевразийские идеи у Н. Я. Данилевского: взаимодействие тюрков и славян на Балканах и в России // Вестник КарГУ, 2006. URL: https://articlekz.com/article/5276 (дата обращения: 28.09.2024).
- Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 1999. 560 с.
- Цымбурский В. Л. Циклы похищения Европы // Интерлос. Интеллектуальная Россия. URL: http://www.intelros.org/books/rythm_ros_7.htm (дата обращения: 28.09.2024).