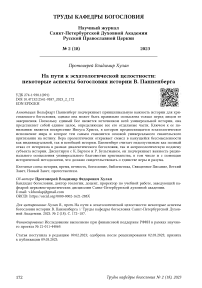На пути к эсхатологической целостности: некоторые аспекты богословия истории В. Панненберга
Автор: Хулап Владимир Федорович
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теоретическая теология
Статья в выпуске: 2 (18), 2023 года.
Бесплатный доступ
Вольфхарт Панненберг подчеркивает принципиальную важность истории для христианского богословия, однако она может быть правильно осмыслена только перед лицом ее завершения. Поскольку единый Бог является источником всей универсальной истории, она представляет собой единое целое, определяющее все его отдельные части. Ключом к ее пониманию является воскресение Иисуса Христа, в котором предвосхищается эсхатологическое исполнение мира и которое тем самым становится основой универсального евангельского притязания на истину. Вера пролептически открывает смысл в кажущейся бессмысленности как индивидуальной, так и всеобщей истории. Панненберг считает недопустимым как полный отказ от историзма в рамках диалектического богословия, так и антропологическую подмену субъекта истории. Дискутируя с К. Бартом и Р. Бультманом, он подчеркивает важность рационального осмысления универсального благовестия христианства, в том числе и с помощью исторической методологии, что должно свидетельствовать о единстве веры и разума.
История, время, вечность, богословие, библеистика, священное писание, ветхий завет, новый завет, протестантизм
Короткий адрес: https://sciup.org/140299845
IDR: 140299845 | УДК: 274-1:930.1(091) | DOI: 10.47132/2541-9587_2023_2_172
Текст научной статьи На пути к эсхатологической целостности: некоторые аспекты богословия истории В. Панненберга
Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-011-44069.
Статья поступила в редакцию 09.02.2023; одобрена после рецензирования 02.03.2023; принята к публикации 09.03.2023.
PROCEEDINGS OF THE DEPARTMENT OF THEOLOGY
Scientific Journal
Saint Petersburg Theological Academy Russian Orthodox Church
No.2 (18)
Archpriest Vladimir Khulap
Towards Eschatological Integrity:Some Aspects of the Theology of History by W. Pannenberg
UDC 274-1:930.1(091)
DOI 10.47132/2541-9587_2023_2_172
EDN EPDGKH
About the author: Archpriest Vladimir Fedorovich Khulap
Doctor of Theology, Associate Professor, Vice- Rector for Education, Head of the Department for Practical Theology at the St. Petersburg Theological Academy.
Funding: The reported study was funded by RFBR, project number 21-011-44069.
The article was submitted 09.02.2023; approved after reviewing 02.03.2023; accepted for publication 09.03.2023.
Вольфхарт Панненберг (1928–2014) родился и вырос в нецерковной семье, однако в юношеском возрасте пережил внутреннее обращение, и после окончания Второй мировой войны начал изучать богословие в ряде немецких и швейцарских университетов. Впоследствии он преподавал теологию в Вуппертале (1958–1961), Майнце (1961–1967) и Мюнхене (1967–1994), став не только одним из выдающихся протестантских богословов XX в., но и активным участником лютеранско-католического диалога, деятельности Всемирного Совета Церквей и т.д.2 Уже та сложная эпоха, в которую он формировался как личность и богослов, поставила перед ним вопрос о богословском осмыслении мировой истории. Эта тематика присутствует во многих его трудах: наряду с главным программным текстом в сборнике «Откровение как история»3
она играет важную роль в его трехтомном «Систематическом богословии»4, «Основах христологии»5 и многочисленных статьях6.
Откровение и целостность истории
«Догматические тезисы к учению об Откровении», содержащие многие центральные положения дальнейшей богословской мысли Панненберга, открываются ясным утверждением: «Самооткровение (Selbstoffenbarung) Бога, согласно библейским свидетельствам, осуществлялось не прямым образом, например, в виде теофании, но косвенно, через исторические дела Божии»7. Тем самым библейский Бог для него — это Бог всемирной истории, и ее невозможно по-настоящему постичь в рамках секулярного историзма, «если считать ее полем лишь человеческой деятельности; ибо человеческие действия сами по себе являются только элементами истории, но не тем, что придает целостность ее ходу»8. Принятие концепции автономной человеческой или всемирной истории означает отказ от библейского образа Бога, поскольку «христианское богословие не может отказаться от основы исторической реальности, не потеряв своей собственной идентичности, и передать притязания на монополию богословски нейтральному пониманию истории»9. Если история представляет собой действие Бога в Его творении, то взгляд на человека как на ее субъект разрушает ее внутреннее единство, поэтому «гарантирующий единство истории Божественный субъект… не может быть заменен никаким человеческим субъектом, ни ипостазированным коллективным субъектом, ни „коллективным единственным числом“ самой истории»10. Вместе с тем, именно историческая составляющая отсутствовала или была недостаточно представлена в рамках диалектического и экзистенциального богословия, внеисторический «авторитаризм» которых критикует Паннен-берг. Для него чуждо как антиисторическое «богословие Слова Божиего» К. Барта, который в своей борьбе против секулярного и богословского «историзма» настолько радикально противопоставил вечность Бога и время человеческой истории, что релятивировал ее значение для богословия11, так и керигматическая теология Бультмана, подчеркивающая важность индивидуального экзистенциального ответа человека и тем самым не принимающая должным образом во внимание творческое спасительное действие Бога в рамках истории12.
Панненберг предлагает холистический взгляд на всемирную историю, поскольку в рамках его герменевтики правильное постижение любого отдельного события возможно лишь перед лицом осознания их всеобъемлющей совокупности. История для него — это «реальность в своей тотальности» (Wirklichkeit in ihrer Totalität)13, поэтому все исторические события должны рассматриваться не изолированно, но в рамках универсальной истории, которая укоренена в творческой и спасительной воле Бога. Целое первично по отношению к частному, поэтому именно в нем заключается полнота единой истины. Панненберг считает неправильным разделение истории на объективную научную дисциплину (Historie) и субъективное осмысление прошедших событий (Geschichte). Они неразрывно связаны друг с другом, невозможно разделять исторические факты и заключающийся в них смысл, поскольку каждое событие имеет значение для других событий и всей их совокупности. Только на основании этого онтологического единства события и его значения возможно объективное постижение истории, недоступное редукционистскому материалистическому взгляду14.
С точки зрения светского исследователя говорить о целостности всемирной истории невозможно: в ней нет определяющего начала, ясного содержательного центра или детерминирующего конца. Однако с богословской точки зрения эта целостность, безусловно, существует: если единый Бог — Господь всей мировой истории, а каждое отдельное событие обретает смысл только в рамках целого, то вся история с христианской точки зрения может обрести полноту своего смысла лишь в своем завершении. Это внутреннее единство истории Вселенной, человека и общества окончательно проявится лишь в эсхатологическом явлении Бога всему творению: «Откровение происходит не в начале, но в конце открывающей истории»15. Именно тогда все исторические события как «истории спасения», так и секулярной истории сложатся в единую целостную картину, все творение станет причастным полноте Царства Божиего и сможет созерцать Его величие. В связи с этим и богослову, и историку необходимо ясно осознавать фрагментарность и незавершенность любых исторических интерпретаций в нынешнюю доэсхатологическую эпоху: даже если через взаимосвязь различных исторических событий можно в определенной мере постичь их значение, однако такое понимание все же является ограниченным.
Откровение включает в себя «творение, искупление и исполнение мира», поэтому «только вместе с последним, в эсхатологическом будущем мира, этот процесс обретет свое завершение через окончательное откровение славы Божией в свидетельстве Его божества»16. Тем самым Бог не пребывает лишь в Себе, но открывает миру Свою сущность, и эти отношения не являются для Него просто внешними: «Бог осуществляет Себя (verwirklicht sich selbst) в мире через Свое пришествие в мир»17. При рассмотрении вопроса о действии неизменного вечного Бога во временных рамках человеческой истории Панненберг подчеркивает важность библейского образа верности Бога: «В отличие от представления о неизменности Божией идея Его верности не исключает ни историчности, ни контингентности мировых событий, но, напротив, историчность и контингентность Его действия также не должны противоречить вечности Бога: если вечность и время соединяются только в эсхатологическом исполнении истории, то с точки зрения истории Бога по направлению к этому исполнению существует пространство для становления (Werden) в Самом Боге, а именно в отношении имманентной и икономийной Троицы, и в этих рамках тогда также возможно говорить о Боге, что Он Сам стал чем-то, чем Он прежде не был, когда Он вочеловечился в Своем Сыне»18. Эта идея о парадоксальной тесной связи Бога и истории более последовательно и радикально будет представлена в «богословия процесса», где Бог «истори-зируется» и движется вместе с миром по его истории19.
«История спасения» и пролепсис во Христе
Объективное постижение истории отчасти возможно уже сейчас благодаря происходящему в ней Откровению, которое приоткрывает в кажущемся хаосе событий их глубинное сотериологическое значение. Одновременно история ожидает окончательного Откровения и стремится к нему, поскольку она не может обрести свой истинный смысл из себя самой, но только извне. Откровение освещает светом вечности исторические события и раскрывает их скрытое значение, тем самым предвосхищая конец истории, поскольку «единый, единственный Бог может открыться в Своей божественности только опосредованно из совокупности всех событий»20. Бог должен был открываться в истории, чтобы стало возможным Его окончательное Откровение в ней. На Панненберга при этом оказало значительное влияние богословие Г. фон Рада, который подчеркивал принципиальное значение истории как одной из основополагающих категорий Св. Писания21. Поэтому в рамках богословия истории речь прежде всего идет о ветхо- и новозаветных рамках «истории спасения» (Heilsgeschichte), которая кардинальным образом отличается от религиозного мифа. Именно благодаря Писанию христианство постигает все события в горизонте всемирной цели и надежды: как ветхозаветная, так и новозаветная Церковь видят в истории тайну и ее открытие, диалектическое напряжение между «еще не» и «уже» произошедшим обетованием и исполнением, спасением мира и человечества. Однако «история спасения» — это не история одного израильского народа, как и не только история христианства; всю мировую историю можно рассматривать как Откровение, поскольку в ее основе находится действие Бога- Творца.
Бытие Израиля основано на опыте совместной истории Бога и Его народа, а также на вере в будущее эсхатологическое Откровение всем народам. «Для Израиля пережитая им история вместе с ее еще незавершенным будущим, которое включает в себя будущее мира и человечества, стала историей явления Бога. Истолкование исторического опыта как выражения власти Бога, как действия Бога, в свою очередь оказывало влияние на само понимание Бога, так что посредством истории все более проявляются божество Бога и Его свой ства… по направлению к будущему, в котором слава Бога Израиля откроется окончательно и для всех людей из Его исторического действия»22. Ветхозаветные явления Бога нельзя понимать как самооткровение в строгом смысле слова, их целью была встреча Бога и Его народа в заповедях, культе, обетованиях. Бог открывается через исторические события (переход через Чер-мное море, завоевание Земли обетованной и т. д.) как истинный Бог, Которому можно верить и доверять. Не только спасительные, но и трагические события библейской истории (разрушение Иерусалима, вавилонский плен) становятся средством испытания веры всего народа, а перед лицом отступления от заповедей Яхве пророки возвещают Его суд. Возвращение из плена и восстановление Иерусалима видимым образом подтверждают пророческую весть о том, что слава Яхве будет явлена всем народам. Поэтому для Панненберга апока-липтика представляет собой кульминацию всей библейской традиции, ведь именно здесь разрываются узкие границы одного израильского народа и Бог ясно представляется как Владыка всего мира и всей истории. Ветхозаветная эсхатология ожидает конца нынешнего мира и стремится к надежде на наступление нового идеального будущего человечества, в котором полностью откроется власть Бога. Именно в апокалиптической литературе начинает ясно выражаться мысль о вселенской истории как совокупности событий, ведущих к установленной Богом исторической цели, которая соберет воедино всю предыдущую историю. Тем самым без осознания будущего «конца времен» не было бы и самого понятия единой целостной истории. Прошлое и настоящее в таком понимании играют роль подготовки к будущему, которое является самой главной исторической категорией.
Именно в этом ветхозаветном контексте необходимо рассматривать новозаветную христологию, подчеркивает Панненберг: «Идея эсхатона истории, который является как ее концом, так и ее исполнением, восходит к иудейской апо-калиптике… Тем самым данная перспектива определила горизонт понимания вести Иисуса о близости грядущего Царства Божиего и развития христианской эсхатологии»23. Однако в отличие от ветхозаветной истории в Иисусе Христе происходит уникальное историческое откровение Бога, Он — воплощенное эсхатологическое спасение. На первый взгляд, здесь возникает противоречие между идеей полноты Откровения лишь в конце истории и центральным значением «события Христа» (Christusgeschehen), которое тем самым низводится до уровня пусть и особенного, но тем не менее одного из событий истории спасения. Панненберг решает эту проблему с помощью модели антиципации (Antizipation) или пролепсиса (Prolepse), т. е. предвосхищения конца истории в Иисусе Христе. Он указывает: «Хотя лишь совокупность истории может явить божество единого Бога и этот результат может осуществиться только в конце всей истории, однако [это] отдельное событие имеет абсолютное значение как Откровение Божие… Как предваряющее конец, событие Христа не может быть превзойдено никаким последующим событием и оно предшествует всякому постижению, пока люди еще шествуют к открытому будущему эсхатона»24. Тем самым во Христе как в Сыне Божием предвосхищается эсхатологическое будущее тварного времени, Христос — Человек, в котором Сам Бог уникальным образом пришел в мир. В свете Его воскресения открывается окончательная цель творения мира — причастность вечной жизни Бога. Открывшийся во Христе Бог — не просто Бог Израиля и христиан, но единый Господь всего человеческого рода: «Бог Израиля окончательно явил в судьбе Иисуса Свое Божество и теперь открыт также как единый Бог всех людей»25.
Для Панненберга принципиально важно сохранить абсолютность и уникальность христианства перед лицом критики либерального богословия и «школы истории религий» (religionsgeschichtliche Schule). «Если Бог открыт через Иисуса Христа, тогда только через событие Христа определяется, кто или что есть Бог… Сущность Бога тогда вообще непостижима без Иисуса Христа»26. Именно воскресение Христа играет при этом решающее значение, поскольку с ним «связан характер подтверждения предпасхально-го притязания Иисуса. Поэтому событие воскресения обладает действующей в обратном направлении силой. Иисус не просто становится чем-то, чем Он не был бы прежде, но Его предпасхальное притязание подтверждается Богом»27. Предвосхищение конца всей истории в Иисусе Христе тем самым становится основой универсального евангельского притязания на истину. Все явленное в Нем имеет значение не просто для экзистенциальной самореализации индивидуума, но речь идет о явлении цели человека и всего творения как вечной преображенной жизни в единстве с Творцом. Идея пролепсиса противоположна идеалистическому взгляду на историю, которая для Гегеля, например, представляет собой процесс развития мирового духа (Weltgeist), и этот прогресс должен вести ко все большему просветлению (поэтому в итоге христианство должно быть заменено идеалистической философией)28. Пан-ненберг, критикуя такой взгляд, указывает, что история не является бесконечным прогрессом, поскольку у нее есть конечная цель, уже реально осуществленная в жизни, смерти и воскресении Христа, поэтому никакое превосходящее его более высокое философское учение невозможно. «Цель всей истории, воскресение мертвых»29 уже достигнута в Иисусе Христе. Человеческая история не заканчивается на Пасху, она продолжается в ее новом свете, однако воскресение не может быть превзойдено никаким другим событием, поскольку то, что произойдет в конце истории, уже произошло во Христе. Бультман считал библейскую апокалиптику несущественной: поскольку ожидаемого первыми верующими скорого пришествия Христа не произошло, вся она становится жертвой его стремления к демифологизации Писания. Поэтому эсхатология является для него прежде всего презентной, т. е. реализуемой в экзистенциальном выборе в пользу керигмы, которым оправдывается перед Богом каждый верующий. Панненберг, напротив, говорит о футуристической эсхатологии, в ее рамках, согласно обетованиям Божиим, откроется полнота жизни человека и мира, которые станут причастными вечности Бога. «Апокалиптика продолжает… линию ветхозаветного понимания Откровения. Она ожидает окончательного самосвидетельства (Selbsterweis) Яхве, явления Его славы, в контексте окончательных событий»30. Творение мира и его эсхатологическое исполнение в такой перспективе оказываются связанными с сущностью Самого Бога, поскольку «ввиду творения мира божественность Бога и даже Его бытие становятся зависимыми… от исполнения их определений в реальности Царства Божиего»31.
Благая весть о грядущем Царстве Божием «современна» (genwärtig) нам, однако его полнота наступит только в будущем. Поэтому Христос как Господь будущего продолжает творить историю, и вся она становится понятной только исходя из Него как явления будущего человека и человечества. Воскресение Христа — это ключ к пониманию и интерпретации истории, оно сверхисторично и одновременно является ее исполнением, объединяя в себе все ее цели: новое творение, воскресение мертвых, суд нам миром, триумф добра над злом, раскрытие смысла всех прежних событий. Тем самым воскресение венчает все отдельные исторические события и всю систему истории, оно уже является таинственным концом человеческой истории, хотя ее естественный конец еще не наступил32. С другой стороны, это не какое-то абсолютно инако-вое и поэтому изолированное от человеческой истории событие, скорее, речь идет о переплетении в нем исторического и надисторического, имманентного и трансцендентного. Различие между временем и вечностью преодолевается воплощением Сына Божиего, и тем самым творение получает возможность стать причастным вечности Бога. Поэтому Логос, в Котором время обретает свое начало и конец, созидает единство между временем и вечностью. В Нем вся прошедшая история спасения достигает своей кульминации и одновременно Божественный свет освещает финал человеческой истории33. Однако это не означает, что после воскресения Бог становится полностью постижимым для человека. Пролепсис подразумевает, что когда человечество обретет полное откровение Божие в эсхатоне, оно осознает, что все это уже особым образом присутствовало в жизни, учении и воскресении Христа. Бог действительно открылся во Христе и тем самым уже начал эсхатологическую эпоху, однако понимание Откровения ввиду ограниченности человека все же является неполным и несовершенным: хотя его содержание ясно и неизменно, в ходе истории оно требует все нового осмысления и выражения. Поэтому помимо самой истины также существует история ее постижения и детализации. Сохраняя внутреннее историческое единство Откровения, такой взгляд подчеркивает не только допустимость, но и важность исторического подхода в исследовании Писания и христианского богословия, а также принципиальное значение традиции как инструмента передачи веры. Все исторические события необходимо истолковывать не изолированно, но в их контексте, в котором они происходят, т. е. с учетом истории передачи традиции. Например, в отношении библейской истории это означает, что воскресение Христа можно понять лишь в свете истории народа Израиля и его апокалиптики: поскольку иудеи ожидали всеобщее воскресение мертвых, они смогли понять значение того, что произошло в Иисусе Христе. Тем самым история передачи традиции (Überlieferungsgeschichte) принципиально важна, поскольку она принимает во внимание внешние рамки, духовный и культурный климат, в котором происходят события.
Реальное соприкосновение с фактом воскресения и тем самым с концом истории возможно через веру, которая помогает двигаться из прошлого к будущему, открывает в кажущейся бессмысленности событий их глубинный смысл, не только дарует человеку познание, но также преображает и просвещает его. Вера по своей сути также пролептична, поскольку она предвосхищает эсхатон, раскрывает истинное значение индивидуальной и общечеловеческой истории, ведь «через будущее вечность входит во время»34. Верующий живет в диалектическом напряжении между «уже» совершенным во Христе спасением и «еще не» открытой эсхатологической плиромой конца, и в такой динамической перспективе истории Панненберг рассматривает всю христианскую антропологию: «Образ Божий принадлежит человеку не с самого начала его сотворения, но осуществляется только в ходе истории человечества. Он означает не изначально данное состояние, но определение человека, которое осуществлено только в истории Иисуса Христа, в Его послушании и Его воскресении»35. Человек осуществляет свое предназначение лишь в истории и через историю, причем не только как индивидуум, но и во всей совокупности человечества. Одновременно такая устремленность к единой будущей цели не ущемляет человеческой свободы, поскольку именно сила будущего освобождает человека от уз настоящего для истинной свободы самореализации в перспективе веры.
Без факта Воскресения христианство не имело бы твердого основания, на которое может опереться его объективное историческое мышление. Поэтому для Панненберга совершенно неприемлем деисторизирующий христианское благовестие тезис Бультмана о том, что Иисус «воскрес в керигму»36. Воскресение, о котором повествуют евангельские тексты, совершенно реально и доступно историческому постижению, однако одновременно оно абсолютно уникально и принципиально инаково по сравнению с другими историческими событиями; тем самым недостаточен принцип аналогии, применяемый в рамках научного осмысления истории37. Факт распятия и воскресения исторического Иисуса является для Панненберга основой веры как личного доверия Богу, поэтому он считает невозможным противопоставлять историю и керигму, неразрывно связанную с историей Иисуса Христа. Вместе с тем, воскресение приглашает всех людей, а не только христиан, к совершенно другому уровню вопрошания: каждый должен задаваться вопросами, превосходящими горизонт его земного бытия, однако это возможно лишь в том случае, если человек может надеяться на нечто, находящееся за пределами смерти. Поскольку человек является существом социальным, то воскресению должно быть причастно и все человечество, а ввиду тварности нашего мира воскресение предполагает и творение мира нового. Тем самым Панненберг стремится показать, что библейская идея воскресения не противоречит современному мышлению, напротив, оно может и должно иметь ее в качестве своей предпосылки38.
История и универсальное познание истины
Панненберг подчеркивает, что историческое библейское Откровение, в отличие от субъективного религиозного опыта, является универсальным. Это не тайное знание для небольшого круга посвященных, оно «открыто каждому, у кого есть глаза, чтобы видеть»39. Поскольку будущее Откровение уже вошло в историю в Иисусе Христе, оно доступно всем людям, но не просто в качестве личного экзистенциального опыта (как полагает Бультман), поскольку такой взгляд противоречит идее обращения Бога ко всему человечеству и редуцирует вселенскую идею христианства до индивидуалистического уровня. Одновременно для него неприемлема позиция Барта, согласно которой весть Евангелия абсолютно превосходит когнитивные возможности человека, поэтому только вера является необходимой предпосылкой его правильного постижения; в рамках такого фидеистского взгляда у человека нет необходимости использовать свой разум, а содержащееся в Писании Откровение становится отделенным от мировой истории. Панненберг полагает, что если христианский Бог — это Бог истории всего человечества, то Его акт самооткровения должен быть открыт всем как в пролепсисе, так и в его будущем исполнении. Тем самым Откровение для него не антирационально, именно благодаря лежащим в его основе историческим событиям возможны правильные отношения между верой и разумом: «Вера не становится излишней ввиду знания об Откровении Божием в являющих Его Божество событиях. Вера должна иметь дело с будущим. Это заложено в ее сущности как доверии: доверие существенно обращено в будущее, оно оправдывается или разочаровывается будущим. Однако человек доверяет не слепо, но на основании реальных данных, рассматривающихся в качестве достоверных»40. Тем самым вера как доверие тому, что Бог исполнит Свои обетования в будущем, всегда связана с конкретными фактами, являющимися принципиально познаваемыми для всех — Бог открывается в событиях, которые постижимы человеческим разумом.
Панненберг полагает, что Откровение Бога в истории, причем не только в библейской, доступно как очам веры, так и беспристрастному объективному взгляду на мировую историю, однако это не означает автоматически абсолютной и универсальной очевидности действия Бога в мире. Знаменитый тезис К. Барта «история — это предикат Откровения, но Откровение тем самым не становится предикатом истории»41 подчеркивает, что история и исторические исследования не открывают нам Бога, поскольку такое познание возможно только через возвещение Слова и просвещение Св. Духом. Однако Панненберг полагает, что исторические факты могут пробуждать и сохранять живую веру, а Божественное Откровение не может рассматриваться как событие, находящееся за пределами границ рационального знания, поскольку в этом случае богослову легко скатиться в гностицизм. Бог открывает Свою силу в доступных человеческому постижению исторических событиях, которые «говорят на своем собственном языке, на языке фактов. На этом языке фактов Бог явил Свое божество»42. Эти факты скрыты от многих не потому, что истина слишком высока; люди должны правильно использовать свой разум, чтобы увидеть и постичь ее — но именно этого многие просто не делают. Поскольку всеобъемлющее и окончательное са-мооткровение Бога произойдет лишь в конце истории, человек ввиду своей ограниченности может неверно понимать Его деяния в мире или даже отвергать Его существование, но «Творец идет на риск греха и зла как условия реализации цели свободного общения творения с Богом»43. Именно грех искажает истинную природу реальности и затемняет постижение власти Бога над миром. Однако и эта возможность «не-познания» Бога является для Пан-ненберга неотъемлемой составляющей тварного мира: «То, что реальность Бога и Его Откровения в мире спорна, также относится к реальности мира, который в догматике должен рассматриваться как мир Божий… И даже спорность реальности Бога в мире должна быть основана в Боге, если Он является Творцом этого мира»44. Поэтому кажущаяся бессмысленность и запутанность истории является одним из выражений всесилия Бога, которое обретет свое завершение в суде над миром. «Бог, Небесный Отец, становится отсутствующим для творения… Уверенное в собственной самостоятельности и уповающее на нее творение ощущает власть Бога теперь лишь как границу… Отсутствие, скрытость Бога действительно возвещает суд, которому неизбежно подпадает творение, если оно освобождается от Бога и полностью полагается на свои собственные, конечные способности. Через суд Бог остается Господом отворачивающегося от Него творения»45.
Бультман полагает, что вера основывается не на объективном свидетельстве, уверяющем человека в откровении Бога во Христе, поэтому историкокритическое исследование текстов Нового Завета не может даровать эту уверенность; ее может дать только Сам Бог, обращающийся к человеку в евангельской керигме. Поиск «объективной уверенности» превращает веру в человеческое дело, через которое невозможно получить спасение; в этом случае нет разницы между уверенностью в спасении на основании дел собственной праведности и уверенности, основанной на объективном познании46. Однако Панненберг считает, что если Откровение Бога действительно происходило в человеческой истории, то никакого принципиального различия между священной и профанной историей быть не может. Поскольку исторические исследования могут помочь в установлении фактов прошлого, их методы возможно использовать и в теологии. Например, противники историкокритического метода нередко считали его частью антропоцентричного мировоззрения, в котором человек занял место Бога. Панненберг частично соглашается с таким взглядом, однако подчеркивает, что этот метод (конечно, при осознании его границ) можно использовать для демонстрации того, что христианская вера основывается не на субъективном решении верующего, но на достоверных исторических фактах. Говоря об исторических фактах и их интерпретации, он подчеркивает: «История никогда не складывается из так называемых bruta facta. В качестве человеческой истории ее события всегда переплетены с пониманием, в надежде и напоминании, и изменения в понимании сами являются историческими событиями»47. Поэтому он стремится вести дискуссию с различными мировоззренческими направлениями (в т. ч. и с атеизмом) в рамках своей «философской теологии» на рациональных основаниях, исходя из того, что христианское знание доступно для всех. В этом его позиция отличается от взгляда Барта, который резко выступал против любой возможности естественного богопознания и отрицал существование возможных точек соприкосновения между самооткровением Бога и уже имеющимся опытом человека. Богословие для него должно начинаться с непререкаемого Слова Божиего, поэтому не существует апологетики, основанной на рациональной аргументации (однако позже Барт смягчил эту позицию). Панненберг, напротив, считает, что богословию следует не просто ссылаться на авторитет Писания, но использовать рациональную аргументацию, которая не зависит от априорного принятия веры. Поэтому вера для него — не просто предварительное условие для постижения божественного Откровения; честное исследование исторических фактов также может привести к ее обретению.
Итак, в богословии истории В. Панненберга можно выделить ряд важных составляющих. Прежде всего, это ее укорененное в единстве Бога целостное телеологическое восприятие, позволяющее избежать как абстрактного антиисторизма, так и субъективного партикуляризма. Христологическая основа такого взгляда позволяет не только задаваться вопросом о будущем откровении смысла всемирной истории, но и пролептически осмыслять его уже здесь и сейчас. Вера позволяет особым образом двигаться по этой необратимой линии к ее завершению, предвосхищенному во Христе, и вместе с тем в рамках такого «панхристианского» подхода помогает созидать продолжающуюся историю. Вместе с тем, уникальность событий «истории спасения» подчеркивает недостаточность историко-критического принципа аналогии и гомогенности всего происходящего. Критика диалектического богословия Панненбергом не означает простого возврата к либеральному богословию, но является попыткой нового синтеза перед лицом актуальных вызовов и особенно все более растущей дистанции между христианством и современным миром. История также может стать источником богопознания в ходе рациональной рефлексии, что открывает возможности апологетического диалога его «философского богословия» с нерелигиозным обществом, в том числе в рамках дискуссий о возможности единой завершенной системы всемирного исторического процесса. Безусловно, некритичное использование методологии секулярной исторической науки может привести к уменьшению значимости Откровения и потере собственно христианской идентичности подобно тому, как это произошло с либеральным богословием в XIX в. (особенно перед лицом декларируемой Панненбергом ограниченности богословского познания и оценки в нынешнюю доэсхатологическую эпоху). Однако вопросы о том, каким образом возможно познание значения исторических событий перед лицом их незавершенности, как человеку обрести смысл жизни в водовороте кажущейся бессмысленной истории, являются общечеловеческими и непреходящими, поэтому в каждой новой исторической эпохе христианство должно стремиться давать на них ответ, который будет понятен в том числе окружающему его миру.
Список литературы На пути к эсхатологической целостности: некоторые аспекты богословия истории В. Панненберга
- Лаврентьев А. Историософская концепция в теологии Вольфхарта Паннен-берга: дисс. ... канд. фил. наук. М., 2015.
- Barth K. Die Christliche Dogmatik im Entwurf. Bd. 1. Die Lehre vom Worte Gottes, Prolegomena zur christlichen Dogmatik 1927 / Hrsg. von G. Sauter (Karl-BarthGesamtausgabe. Bd. 14). Zürich, 1982.
- Braaten C.E., Clayton P. The Theology of Wolfhart Pannenberg. Minneapolis, 1988.
- Brauer M. Theologie im Horizont der Geschichte. Frankfurt am Main, 1994.
- Brauer O. D. Dialektik der Zeit. Untersuchungen zu Hegels Metaphysik der Weltgeschichte. Stuttgart, 1982.
- Bultmann R. Jesus Christus und die Mythologie. Hamburg, 1964.
- Cobb J. B., Griffin D. Process Theology. An Introduction. Philadelphia, 1976.
- Essen G. Geschichtstheologie und Eschatologie in der Moderne. Eine Grundlegung. Münster, 2016.
- Gozdz K. Jesus Christus als Sinn der Geschichte bei Wolfhart Pannenberg. Regensburg, 1988.
- Kendel A. Geschichte, Antizipation und Auferstehung. Theologische und textteoretische Untersuchung zu W. Pannenbergs Verständnis von Wirklichkeit. Frankfurt am Main, 2001.
- Koch K. Der Gott der Geschichte. Theologie der Geschichte bei Wolfhart Pannenberg als Paradigma einer philosophischen Theologie in ökumenischer Perspektive. Mainz, 1988.
- Lebkücher A. Theologie der Natur. Wolfhart Pannenbergs Beitrag zum Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaft. Neukirchen-Vluyn, 2011.
- Mesle C.R. Process Theology. A Basic Introduction. St. Louis, 1993.
- Montgomery J. W. Karl Barth and Contemporary Theology of History // Bulletin of the Evangelical Theological Society. 1963. Vol. 6:2. P. 39-49.
- Ott H. Geschichte und Heilsgeschichte in der Theologie Rudolf Bultmanns. Tübingen, 1955.
- Pannenberg W. Anthropologie in theologischer Perspektive. Göttingen, 1983.
- Pannenberg W. Die Auferstehung Jesu und die Zukunft des Menschen // Idem. Grundfragen systematischer Theologie. Gesammelte Aufsätze. Bd. 2. Göttingen, 1980. S. 174-187.
- Pannenberg W. Die Erfahrung der Abwesenheit Gottes in der modernen Theologie // Die Erfahrung der Abwesenheit Gottes in der modernen Kultur / Hrsg. von W. Pannenberg. Göttingen, 1984. S. 9-24.
- Pannenberg W. Die Offenbarung Gottes und die Geschichte der Neuzeit // Idem. Glauben und Wirklichkeit. Kleine Beiträge zum christlichen Denken. München, 1975. S. 113-134.
- Pannenberg W. Dogmatische Thesen zur Lehre von der Offenbarung // Offenbarung als Geschichte / Hrsg. von W. Pannenberg. Göttingen, 1961. S. 91-114.
- Pannenberg W. Geschichte — Geschichtsschreibung — Geschichtsphilosophie VIII. Systematisch-theologisch // Theologische Realenzyklopädie. Bd. 12. Berlin, 1984. S. 658-674.
- Pannenberg W. Grundzüge der Christologie. Gütersloh, 1964.
- Pannenberg W. Heilsgeschehen und Geschichte // Idem. Grundfragen systematischer Theologie. Gesammelte Aufsätze. Bd. I. Göttingen, 1967. S. 22-78.
- Pannenberg W. Hermeneutik und Universalgeschichte // Idem. Grundfragen systematischer Theologie. Gesammelte Aufsätze. Bd. I. Göttingen, 1967. S. 91-123.
- Pannenberg W. Jesu Geschichte und unsere Geschichte // Idem. Glauben und Wirklichkeit. Kleine Beiträge zum christlichen Denken. München, 1975. S. 92-102.
- Pannenberg W. Systematische Theologie. 3 Bde. Göttingen, 1988-1993.
- Pannenberg W. Theologie der Schöpfung und Naturwissenschaft // Idem. Natur und Mensch — und die Zukunft der Schöpfung. Beiträge zur Systematischen Theologie. Bd. 2. Göttingen, 2000. S. 30-42.
- Pannenberg W. Über historische und theologische Hermeneutik // Idem. Grundfragen systematischer Theologie. Gesammelte Aufsätze. Bd. I. Göttingen, 1967. S. 123-159.
- Pannenberg W. Was ist der Mensch? Die Anthropologie der Gegenwart im Lichte der Theologie. Göttingen, 1962.
- Rad G., von. Theologie des Alten Testaments. 2 Bde. München, 1957-1967.
- Schnädelbach H. Geschichtsphilosophie nach Hegel: die Probleme des Historismus. Freiburg, 1974.
- Tupper E.F. The Theology of Wolfhart Pannenberg. London, 1974.
- Wenz G. Wolfhart Pannenbergs Systematische Theologie. Ein einführender Bericht. Mit einer Werkbibliographie 1998-2002 und einer Bibliographie ausgewählter Sekundärliteratur. Göttingen, 2003.