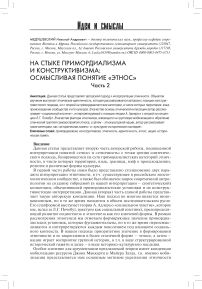На стыке примордиализма и конструктивизма: осмысливая понятие «этнос» часть 2
Автор: Медушевский Н.А.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 2 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
Данная статья представляет авторский подход к интерпретации этничности. Объектом изучения выступает этническая идентичность, которая рассматривается автором с позиции конструктивистского подхода, но с опорой на примордиалистские категории, в числе которых территория, язык, происхождение сообщества и его культура. В качестве основы этнической интеграции автор рассматривает «социальный инстинкт», интерпретируемый с позиции теории А. Адлера и с опорой на концепцию Л.Г. Почебут. В качестве фактора этногенеза, влияющего на групповую мобилизацию и обретение этнической группой самовосприятия этноса, а затем - этнокультурной нации, автор рассматривает такие категории, как «историческая память» и «культурно-историческое наследие».
Примордиализм, конструктивизм, этничность, идентичность, этнос, нация, историческая память
Короткий адрес: https://sciup.org/170210315
IDR: 170210315 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-2-196-208
Текст научной статьи На стыке примордиализма и конструктивизма: осмысливая понятие «этнос» часть 2
Данная статья представляет вторую часть авторской работы, посвященной интерпретации понятий «этнос» и «этничность» с точки зрения синтетического подхода, базирующегося на сути примордиалистских категорий этнич-ности, в числе которых территория, язык, границы, миф о происхождении, религия и различные формы культуры.
В первой части работы нами было представлено столкновение двух парадигм интерпретации этничности, в т.ч. существующее в российском эпистемологическом сообществе, а также был обозначен запрос современной антропологии на создание гибридной (в нашей интерпретации – синтетической) концепции, объединяющей примордиалистские установки и их конструктивистскую интерпретацию. Данная (вторая) часть единой работы представляет такую авторскую концепцию. Наш подход во многом является инновационным, но в то же время находится в общем исследовательском русле. Его платформой выступает теория А. Адлера о «социальном чувстве», которое мы, вслед за Л.Г. Почебут, трактуем как социальный инстинкт, предопределяющий развитие социогенеза и этногенеза как его ключевой формы. В рамках рассмотрения этногенеза мы отмечаем формирующее значение примордиа-листских установок, которые фундаментальны, но в то же время переосмысливаются и интерпретируются каждым поколением под влиянием социального контекста. В нашем подходе приоритетное значение в формировании этничности и ее закреплении в более статичной форме – этносе, а затем – нации играет восприятие группой истории, в т.ч. в виде структурированной исторической памяти и далее – в виде историко-культурного наследия.
Особое значение для аргументации предлагаемой теории имеет концепция мобилизации ресурсов Джона Маккарти и Майера Залда, т.к. именно мобилизация представляется нам основным мотивом укрепления этничности как в плане инструментального направления деятельности представителей сообщества к определенным целям, так и в аспекте мобилизации исторической памяти сообщества, наличие которой является основой системного и комплексного восприятия членами сообщества своей этнической группы как «сущности», т.е. этноса.
Авторский (синтетический) подход к пониманию этноса, этничностии этногенеза
Обзор антропологических и этнографических подходов и школ, проведенный выше, позволил выявить целый комплекс идей, которые так или иначе присутствуют во всех теориях. В числе данных базовых сущностей следует выделить такие, как:
-
• этнос/этническая группа/этническое сообщество, который находится в тесной связке с терминами «народ»/ «народность»/ «нация»
-
• эволюция/развитие/генезис
-
• восприятие извне/ дихотомия «мы–они»
-
• границы
-
• структура/социальная структура
-
• личность/член сообщества
-
• идентичность/
микроидентичности/инстинкт/ подсознание
-
• носитель информации/ объект культуры/символ
-
-
• территория/почва
-
• история
-
• историческая память
-
• культура
-
• язык
-
• родственные связи
-
• мифы/миф о происхождении
-
• религия
-
• солидарность членов группы/осознание принадлежности/патриотизм
Каждая из школ в силу идейной принадлежности и времени своего создания в формировании концепта делала акцент на конкретный набор характеристик, по-разному трактуя их смысл и значение. Закономерным итогом сформировавшегося за два столетия исследований многообразия стал эффект бриколажа в самой антропологической науке, который особенно усилился под влиянием постмодернизма и деконструктивизма, открывшими дорогу многообразным частным подходам и теориям, дающим статус «уникального явления» каждому из многообразия изучаемых сообществ и каждому представителю отдельного сообщества с позиции формирования его идентичности.
Безусловно, нельзя отрицать, что детализация изучаемого пространства – это основа научного познания, однако в то же время все изучаемые явления, в нашем случае – этнические группы, должны прямо или косвенно укладываться в общую логику познания, что необходимо для конечного решения проблемы сравнимости. Кроме того, нельзя отрицать тот факт, что в центре рассмотрения любой антропологической теории стоит человек, а предметом изучения в общем виде является его социализация (антропогенез). Таким образом, антропология и этнология изучают человека социализирующегося, признавая, что модели и типы социализации могут быть вариативными и зависят от уникального дизайна всех атрибутов социализации, обозначенных в списке выше.
Тем не менее, признавая вариативность конструкта этноса и этнично-сти, мы не можем безоговорочно согласиться с принципом, изложенным Й. Сиапкасом [Siapkas 2014]. Сиапкас (со ссылкой на А. Смита [Smith 1986]), на наш взгляд, вполне логично констатирует, что «этническая принадлеж- ность, как и культура, является общеизвестно неуловимым и спорным понятием… и мы уточняем этническую принадлежность, интерпретируя такие культурные черты, как: (1) собирательное имя; (2) распространенный миф о происхождении; (3) общая история; (4) особая общая культура (которая может выражаться через язык, религию, обычаи, институты, законы, фольклор, архитектуру, одежду, еду, музыку или искусство); (5) привязка к определенной территории и (6) чувство солидарности» [Siapkas 2014]. Как следствие, каждая категория наделена собственным смыслом и не является универсальной. Однако по итогам он делает вывод (ссылаясь на дискуссию между Холлом [Hall 1998] и Джонсом [Jones 1998]), что «предложения об определениях этнической принадлежности легко признать недействительными. Следовательно, определение этнической принадлежности имеет очень ограниченную эвристическую ценность, а призывы к более точным определениям этнической принадлежности проблематичны» [Siapkas 2014].
Данный вывод нам представляется не вполне корректным. Безусловно, данный взгляд на этнос и этничность не позволяет вывести определение, подобное тому, которое предлагал Ю.В. Бромлей или Л.Н. Гумилев, из которого очевидно проистекает примордиалистская сущность этноса, но такая задача перед современной антропологией и этнологией и не стоит. Вместо этого актуальным является создание определения – инструмента, используя который исследователь мог бы «препарировать» любую общность на предмет выявления ее этнической идентичности, оставаясь в то же время в границах сравнимости своих результатов с результатами других исследователей.
Подобный подход к определению ставит вопрос о его стержне – той концептуальной сущности, на которую могут быть нанизаны уникальные формы культуры, истории, религии, понимания пространства, языка, родственных связей и т.д. На наш взгляд, данный «стержень» формирует умение и желание человека социализироваться и коренится в основе его психологии, – то, что можно обобщенно назвать социальным инстинктом, т.к. именно психология личности, в конечном итоге, оказывается первичной единицей, определяющей взгляд человека на реальность. Наличие же в восприятии всех людей доминирующего социального аспекта, таким образом, выступает общим знаменателем для любого элемента антропо- и социогенеза, кроме частных девиантных форм социопатии.
Происхождение и суть термина «социальный инстинкт»
Социальный инстинкт может быть интерпретирован как желание контакта и чувство принадлежности к социальной среде. Идея социального инстинкта восходит к работам Альфреда Адлера, который представлял его как врожденное стремление к сотрудничеству, которое заставляет людей без психических отклонений учитывать социальные интересы и общее благо. Так, Адлер писал: «Индивид становится личностью только в социальном контексте. Другие системы психологии проводят различие между тем, что они называют индивидуальной психологией и социальной психологией, но для нас такого различия не существует» [Adler 1979].
Основные взгляды Адлера на явление социального чувства, или социального инстинкта были изложены им в работе Superiority and Social Interest [Adler 1979], на страницах которой он констатирует, что жизнь человека не может в полной мере, в соответствии с подходами З. Фрейда и К.Г. Юнга, рассматриваться как неизбежная борьба между нашими эгоистичными побуждениями и требованиями общества, т.к. подобное поведение стало бы выра- женным препятствием для развития социальных отношений. Последние, по мнению Адлера, обусловлены социальным интересом, или чувством общности (Gemeinschaftsgefühl), которое является чем-то большим, чем просто членство в определенной группе. Оно коренится в чувстве родства с человечеством и позволяет нашему физически слабому виду выживать благодаря сотрудничеству.
Категория Gemeinschaftsgefühl является «сложным» термином и имеет ряд переводов на русский язык, в т.ч. обозначает чувство общности, социальный интерес, социальное чувство или социальный смысл, но во всех интерпретациях его смысл заключается в признании взаимосвязанности индивидов, испытываемой на аффективном, когнитивном и поведенческом уровнях.
Таким образом, именно социальные интересы, а не суперэго или коллективное бессознательное определяют ориентиры социализации, к которой человек предрасположен с рождения. В данной связи дезадаптация определяется не неспособностью к сублимации или индивидуализации (идеи Фрейда и Юнга), а отрицанием своих коренных социальных интересов. Тем не менее такое поведение возможно, т.к. человек сам выбирает жизненные цели и методы, а социальный интерес – это лишь исходная предрасположенность, которую человек может отрицать, выбирая невротический эгоцентризм.
Отметим, что такая постановка вопроса полностью соответствует нашей гипотезе о базовых примордиалистских установках и конструктивистском отношении индивида и, как следствие, группы к реальности и вопросу идентичности. Фактически базовые этнические установки – территория, культура, язык и групповая солидарность – это то, что человек осознает в самом начале своего существования (по Адлеру – в возрасте 5 лет) и интуитивно принимает как данность, за исключением тех случаев, когда принятие по определенным причинам не произошло и возникло отрицание исходной данности. Тем не менее интерес к социализации, пускай и в ином формате, чем предполагалось, сохраняется, и индивид конструирует свое восприятие идентичности в контексте примата социальности.
В данной связи Адлер пишет, что психическая жизнь человека определяется его целью, к которой он движется, поступая рационально, с позиции доминирующих у него психологических установок.
Социальное чувство А. Адлер относит к категории эмоций, которое выражается в т.ч. в осознании необходимости социальной принадлежности и сопереживании другим. Социальное чувство имеет когнитивное измерение, выраженное в признании взаимозависимости с другими, и того факта, что личное благополучие зависит от благополучия группы и даже людей в целом как вида, т.к. сострадание может распространяться на лиц вне группы. На поведенческом уровне побуждение социализации трансформируется в действия, направленные на саморазвитие и достижение коллективных интересов.
Социальное чувство как детерминирующий фактор социализации выделял не только А. Адлер, но и многие другие психологи, социологи и антропологи ХХ в. Дискуссию о биологических корнях социального поведения в разное время вели У.Г. Самнер, Т.Б. Веблен, У. Макдугалл, В. Троттер, В. Парето, Р.Д. Коллингвуд, А. Гелен, З. Фрейд, К.Г. Юнг, У. Шутц, Э. Гуссерль, Дж.Г. Мид, М. Вебер, Э. Дюркгейм, П.А. Сорокин, Ф. Теннис, Р. Будон и Ф. Буррико, Л.С. Выготский и многие др.
В комплексном виде данная историческая дискуссия представлена в работе
Л.Г. Почебут «Психология социальных общностей» [Почебут 2024]. В данной работе автор констатирует, что предметом обозначенных дискуссий выступали вопросы о том, связана ли социальная жизнь с психической и что является доминирующими компонентами этой взаимосвязи.
В итоге Л.Г. Почебут констатирует, что с биологической точки зрения социальное поведение детерминировано социальным инстинктом, который является биологической предпосылкой социального поведения, наличие которой доказано экспериментально. «В качестве психологических проявлений социального инстинкта выступают феномены социальной фасилитации и чувство принадлежности к общности (а также далее – конформизм, идентичность). Люди реагируют на присутствие друг друга бессознательно и инстинктивно... Не существует социальных видов поведения людей, которые не были бы тем или иным образом врожденными. Социальные инстинкты видоизменяются, перевоплощаются в систему социальных потребностей, имеющую сложную организацию и структуру» [Почебут 2024]. В итоге, мир и порядок в нем не могут рассматриваться исключительно как когнитивный конструкт, т.к. социальный инстинкт предопределяет желание сотрудничать и понимать других индивидов, существующих в твоем окружении.
В то же время «социальное» имеет и когнитивное измерение, предполагающее разделение личного окружения на «мы» и «они», где в каждом конкретном случае происходит осмысление статуса «другого» на предмет степени его соответствия одной из двух категорий. Это, на наш взгляд, ведет к возникновению «оттеночных статусов» – «частично мы» и «частично они». Когнитивное измерение создает барьеры для взаимопонимания индивидов, представляющих баланс социальных сил и установок по-разному. «Индивид, категорируя людей на своих и чужих, преследует двоякие цели. Во-первых, он старается добиться взаимопонимания в едином смысловом пространстве, находясь среди тех, кого он отнес к категории “мы”. Во-вторых, он старается сохранить свою неприкосновенность и безопасность, попадая в иное смысловое пространство, взаимодействуя с теми, кого он отнес к категории “они”, с чужими» [Почебут 2024]. Таким образом, возникновение границ социализации неизбежно, но объем пространства социализации вариативен и зависит от мировоззрения индивида, детерминированного мировоззрением «других», т.е. контрагентов социального взаимодействия.
Важным элементом социализации в ее когнитивном измерении, по мнению Почебут (которое мы разделяем), является принцип категоризации «других», основанный на смыслах (у Почебут – «тайные смыслы»), и в нашем понимании – символах, несущих эти смыслы, которые считываются «другими» в разной степени. Вследствие этого индивид получает возможность категорировать окружение по принципу уровня включенности в единое смысловое поле. Последнее является комплексным выражением культуры, а критерии отбора выступают функцией социального, реализуемого в целях регуляции поведения на четырех уровнях: биологическом (первичный, управляемый волей человека, его значение снижается в контексте развития социальных отношений), личностном (установки, экспектации, атрибуции, предубеждения), групповом (роли и статус) и общественном (нормы, ценности, правила, законы).
Соотношение объема форм социализации в контексте социального взаимодействия, по мнению Л.Г. Почебут, ведет к формированию специфических социальных форм. Так, доминирование социальных инстинктов создает толпу, и здесь можно говорить уже о стадном инстинкте и психологии толпы.
Приоритет социального взаимодействия ведет к развитию социальных отношений и формированию общества как стабильной системы. Доминирование процессов социальной категоризации, по мнению Почебут, свойственно этнокультурным общностям, т.к. принцип диверсификации на «свой» и «чужой» для них оказывается основным и необходим для сохранения идентичности.
На наш взгляд, концепция Л.Г. Почебут верна и аргументирована, хотя предложенная структура «социального» все еще требует уточнения, т.к. реальность человеческой социализации характеризуется большим числом полутонов, и соотношение биологического, личностного, группового и общественного волатильно и зависит от меняющегося контекста социализации.
Тем не менее идея о примате социального инстинкта как исходного основания социального поведения и своего рода примордиалистского основания для дальнейшего конструктивистского восприятия реальности и поведения в ней индивида представляется нам принципиально значимой и способной синтезировать новый взгляд на соотношение примордиалистского, инструменталистского и конструктивистского подходов.
От социального инстинкта через идентичность к этносу
В итоге, социальный инстинкт, выраженный в побуждении к коллективному сосуществованию, предопределяет объединение людей в рамках социальной группы. Следствием этого становится формирование коллективного самосознания, а в продолжительной перспективе ряда поколений – и выраженной этнической идентичности, вбирающей в себя родовую, клановую, племенную идентичности в их ретроспективе, т.к. накопление знаний о группе, внутригрупповых родственных связях, ее истории, правилах и нормах со временем начинает детерминировать мышление отдельного индивида, привнося в него социальные стереотипы – шаблоны восприятия группы и своего места в ней.
С момента образования социальной группы и даже в момент ее создания она одновременно является объектом конструирования и инструментом достижения целей, связанных в первую очередь с безопасностью от внешних угроз, голода, репродуктивных ограничений и т.д. Таким образом, инстинкт социализации способствует преодолению страха через удовлетворение первичных потребностей.
Особенностью инстинкта социализации и причиной, по которой его, на наш взгляд, следует рассматривать в качестве стержня формирования и развития этнического сообщества, является его неизменность, т.к. он будет определять поведение людей столько, сколько будет существовать их род. Люди всегда будут испытывать потребность в социализации, а асоциальность неизбежно будет рассматриваться как маргинальность. Несмотря на то (и здесь мы согласны с Л.Г. Почебут) что роль социального инстинкта снижается пропорционально уровню развития социальных институтов, он продолжает существовать в качестве фона и выходит на первый план в случае кризиса социальных институтов либо изъятия человека из социальной среды (неудовлетворенная потребность во взаимодействии с другими). С этим же, на наш взгляд, связана актуализация вопроса этнической принадлежности в контексте глобализации, т.к. глобализация разрушает традиционные культурные и социальные паттерны, и этнический протест против нее является инстинктивной защитной реакцией, призванной «купировать угрозы».
Примат социального инстинкта в развитии человека является абсолютным, но не безусловным, т.е. все индивиды никогда не будут взаимодействовать со всеми, максимально расширяя границы социальной группы. На наш взгляд, на первичном этапе социализации границы расширения группы детерминированы целесообразностью ее расширения с точки зрения получаемых ресурсов и особенностями коммуникации, где негативным фактором является удаленность, сложнодоступность, агрессивность контрагентов и иные типы коммуникативных барьеров.
Со временем, после обретения членами группы идентичности (социальной, а затем и этнической) она также становится многокомпонентным барьером для приобщения «других» и допускает их включение при условии целесообразности только через ассимиляцию (приобщение к идентичности и навязывание внутренних стереотипов) либо под воздействием внешнего принуждения (принцип «нельзя не включить»). Тем не менее в обоих случаях органичность принятия другого оказывается связана с его способностью воспринимать смыслы и символы культуры, в которую он внедряется и чью идентичность он в итоге приобретает.
Отметим, что обособление этнического сообщества не происходит исключительно по принципу «свой–чужой», где «чужой» – это безусловный антагонист «своего», хотя подобное разделение и существует и в условиях «агрессивной концепции среды» может стать основным. Скорее уместно говорить о разделении по принципу «свой–другой», где у «своего» набор характеристик типичен и стереотипен, а у «другого» – отличен и вариативен.
В итоге происходит обособление группы на основании сконструированной в ней групповой идентичности, которая является усредненной интерпретацией индивидуальных трактовок «правильного» (морального, нравственного) общественного порядка.
Принципиальным вопросом в контексте формирования идентичности является вопрос о том, когда она становится этнической и можно ли говорить о существовании этноса. Фактически описанный процесс, основанный на социальном инстинкте, характеризует создание любой стабильной социальной группы. Наше понимание этничности в данной связи находится в общем тренде ее конструктивистской трактовки. Ее атрибутами являются примордиальные сущности, в т.ч. территория (или идея «земли обетованной», на которую необходимо вернуться), родовая линия, представление о происхождении / миф о происхождении, представление о границах, язык, самоназвание(я), представление о совместном прошлом (история совместного существования), общие духовные представления (духовное мировоззрение) и многообразная культура, представленная через обычаи, традиции, бытовые практики и предпочтения, искусство, сказки, песни, музыку, легенды, мифы и т.п. К данному списку, на наш взгляд, следует также добавить представления об исторических врагах/антагонистах, которыми обычно выступают другие этнические сообщества, но могут выступать и силы природы (например, образ «великой засухи»).
Открытым остается вопрос о необходимости включения в перечень аспектов этничности внешней оценки. С нашей точки зрения, это вторичный фактор, способствующий сплочению, но наравне с ним возможен и фактор отсутствия оценки как таковой, что характерно для изолированных сообществ, не имеющих контактов с внешним миром, как, например, жители ряда Андаманских островов.
Все перечисленные аспекты этничности формируются в контексте продолжительного и стабильного социального взаимодействия членов группы.
Их возникновение знаменует становление этничности, но точный момент возникновения установить невозможно, т.к. он носит сетевой характер: восприятие возникает локально и затем распространяется по всей социальной структуре в рамках общения членов группы.
Вероятно, основную роль в распространении общего типа идентификации играют лидеры/социальные авторитеты, которые используют представления об общности происхождения и жизни как инструмент мобилизации. Здесь мы апеллируем к теории мобилизации ресурсов Джона Маккарти и Майера Залда [McCarthy, Zald 1977], которые в т.ч. констатировали, что есть 5 категорий ресурсов, которые стремятся мобилизовать лидеры, в т.ч. материальные, человеческие, социально-организационные, культурные и моральные ресурсы, и 2 принципа заинтересованности в мобилизации – прагматический (выгода) и моральный (приверженность идее).
Тем не менее, отталкиваясь от установок конструктивизма, мы констатируем, что все перечисленные атрибуты подвержены осмыслению и переосмыслению, и чем дольше существует общество, тем больше слоев осмысления примордиальных установок накладывается друг на друга, где каждый слой примерно соотносим с поколением, хотя в случае «социальных революций» или «сломов» на одно поколение гипотетически может приходиться и два слоя. В итоге, возникает ситуация, когда ныне живущие базируют свое мировоззрение и практику социализации на примордиальных сущностях, возникших далеко в прошлом; но интерпретация данных сущностей вовсе не обязательно совпадает с их интерпретацией прошлыми поколениями или даже живущим поколением до конкретного «слома» мировоззрения, причем речь идет не об индивидуальном восприятии, а о восприятии среднесоциальном.
Существование этничности как атрибута социальной самоидентификации определенной исторически существующей и стабильной социальной группы можно считать объективным и эмпирически наблюдаемым фактом, т.к. подавляющее число представителей конкретной социальной группы имеют представление о своей этнической идентичности, выраженное в знании о коллективном «мы», включающем все атрибуты этничности – территорию, язык, происхождение, самоназвание и пр.
В то же время наличие этнической идентичности у социальной группы еще не означает автоматического существования этноса как комплексной и оформленной сущности. Иными словами, члены группы могут номинально (фоново) осознавать свою принадлежность к группе по принципу общего восприятия территории, культуры, языка, самоназвания, мифа о происхождении и т.п., но не иметь комплексного систематизированного представления о своей группе, т.е. их восприятие сообщества расплывчато и не мобилизовано идеей этноса, а принадлежность к этносу не является базовым аргументом в отстаивании коллективных интересов (ее может подменять, например, родовая, политическая, стратовая и иная идентичность).
Этнос как сущность
В данной связи следует обозначить аргумент в пользу применения самого термина «этнос», т.к. данный термин не используется большинством западных антропологов, но является центральным понятием российской антропологии, этнологии и этнографии, даже несмотря на принятие большинством современных российских авторов конструктивистской (изначально западной) парадигмы исследований. На наш взгляд, термин «этнос» вос- требован по следующей причине. В нашем подходе этнос представляется термином, обозначающим консолидированную этничность (этническую идентичность) группы. Теоретически можно сравнивать различные группы, обладающие этнической идентичностью, вне зависимости от того, на каком уровне социально-политического и культурного развития они находятся. Сравнение технически возможно, если у сравниваемых групп есть все основные атрибуты этнической идентичности – территория, самоназвание, язык и др. Тем не менее сравниваемые группы могут характеризоваться различным уровнем этнической интеграции. На наш взгляд, архаичные общества обладают низким уровнем этнической мобилизации, т.к. объединение членов группы происходит благодаря иерархическому подчинению, основанному на патриархальной культуре. Иными словами, члены группы мобилизуются по принципу родовой, феодальной и иной зависимости от лидеров, выступающих в роле «отцов» сообщества, которых нельзя ослушаться, т.к. их статус сакрализирован традицией и религией. Фактор существования этнической идентичности здесь номинальный и имеет пассивную роль в детерминировании поведения отдельных людей. Фактом, подтверждающим это, становится интеграция многими архаичными феодальными обществами иноэтничных сообществ методом встраивания в систему на основании признания патриархальной власти и без краткосрочной ассимиляции (принципиально, чтобы приняли традиционные лидеры, а не сообщество в целом).
Альтернативный пример представляют более развитые общества с постпатриархальной политической культурой, в которых этническая идентичность становится фактором широкого социального сплочения, прежде всего перед внешними угрозами. Мы можем предположить, что в таких обществах постепенно формируется групповое (народное) самосознание, которое способно определять действия членов группы безотносительно к традиционному лидеру, по крайней мере, в кризисных ситуациях, как, например, создание межсословного народного ополчения и народно-освободительных союзов, а также революции. Очевидно, что в данном случае этническая идентичность становится основным фактором широкой мобилизации, и на групповом уровне одинаковым образом у многих членов срабатывает социальный инстинкт и возникает солидарность, трактуемая нами как одинаковое восприятие коллективных целей.
Поводов, по которым возникает чувство этнической солидарности, формирующее этнос, может быть великое множество, однако причина, на наш взгляд, связана с формированием исторической памяти [Медушевский 2019a], т.е. упорядоченной системы знаний о победах и поражениях (достижениях и кризисах) в прошлом, которые ассоциируются со всей этнической группой и затрагивают суть компонентов этничности (приращение/потеря территории, принятие/подавление религии, истребление представителей общности, запрет языка, убийство почитаемых лидеров, разрушение/восста-новление справедливого порядка и т.д.). Таким образом, историческая память символизирует путь, пройденный группой вместе в условиях, требовавших этнической мобилизации и, в конечном итоге, подтвердивших ее ценность, т.е. историческую память можно трактовать как осознанный опыт, подтверждающий значимость этнической сплоченности / солидарности этноса. Принципиальное значение в данной связи имеет наличие у этнической группы форм фиксации исторических событий в виде летописей, памятников, литературных произведений и т.д., которые обеспечивают сохранение в памяти сообщества знаковых событий и возможность ситуативной актуализации их значения, а также констатируют прямую связь действий этноса (а не только лидера/вождя) и конкретного свершения. Формы фиксации исторических событий для этноса выполняют, в целом, функцию, аналогичную функции объектов материальной и духовной культуры для сохранения этнич-ности. В данном случае объект культуры – это хранилище/квинтэссенция комплекса символов, каждый из которых примерно одинаково считывается носителями этнической культуры.
От этноса к нации и далее
Говоря о том, что этничность в определенных условиях позволяет сообществу создать этнос, мы рассматриваем этот процесс в рамках единого процесса социогенеза, который при дальнейшем развитии получает выражение в нации. Сам термин «нация» связан с развитием немецкой философской мысли XVIII в., в частности с трудами И.Г. Гердера, который констатировал существование метафизического духа народа ( Volksgeist ), объединяющего народ и предопределяющего его судьбу [Гердер 1977]. Данный подход оказался органично встроен в примордиалистские концепции XIX–XX вв. и позволил им интерпретировать нацию как новую, высшую ступень эволюции общества, обусловленную почвой и духом народа, с вытекающей отсюда исторической предопределенностью.
Данные примордиалистские подходы, несмотря на их собственную эволюцию, подвергались жесткой критике со стороны других подходов. Концепт нации с позиции конструктивизма критиковал в т.ч. Б. Андерсон, который относил нации к «воображаемым сообществам» и отмечал, что у воображаемой нации есть две характеристики – ограниченность понимания нации рамками восприятия и суверенность нации внутри данных границ, причем и то и другое существует в восприятии носителей данного образа, которые идентифицируют себя с ним [Андерсон 2001].
В своем концептуальном подходе мы не можем однозначно согласиться ни с примордиалистской, ни с конструктивистской трактовкой, т.к. в первом случае речь идет о метафизической, ощущаемой, но полностью не объяснимой сущности, в то время как во втором возникает ощущение, что нация – это скорее иллюзия, нежели реальность, хотя от ее лица часто реализуется высшая власть, а значит, определенная физическая сущность, стоящая за образом, все же должна присутствовать (в противном случае встает вопрос о легитимности власти, опирающейся на то, чего нет).
В контексте противоборства крайних подходов и доминирования достаточно общей трактовки нации как двух типов «человеческих сообществ: совокупность граждан одного государства (политическая, или гражданская, нация) и этническая общность (этническая нация, этнонация, культурная нация)»1 мы видим необходимость дать альтернативную трактовку с позиции нашего собственного подхода. Рассуждая о сути этноса как интегрированной формы этничности, мы констатировали, что условием интеграции является историческая память, представленная наглядными примерами успеха в результате коллективной мобилизации, к которым этническое сообщество возвращается в своем мышлении, актуализируя «эффект сплочения», чему способствует фиксация образов исторической памяти. В то же время фик- сация образов исторической памяти для сохранения эффекта мобилизации этноса неизбежно расширяет формы интерпретации исторических событий, делая их достоянием культуры в виде произведений искусства, литературы, архитектуры, скульптуры, нумизматики и т.п., а также социального дискурса. Существуя в данной культурной среде, с учетом ее широкой популяризации через просвещение, этническая группа движется по пути дальнейшей интеграции, а сам образ этноса с присущими ему символами и формализованными смыслами приобретает стабильность восприятия и интерпретации, особенно в том случае, когда накладывается на политическую систему, обладающую формализованными и постоянными институтами популяризации образа этноса и его символов, а также инструментами поощрения и наказания за, соответственно, укрепление данного образа или его дискредитацию [Медушевский 2019б]. В итоге, мы можем говорить о том, что на базе исторической памяти формируется историческое культурное наследие, содержащее уже не только позитивные образы мобилизации представителей этноса (или негативные, связанные с отсутствием мобилизации), но и целые многомерные поведенческие системы, связывающие значимые образы мобилизации с многообразием других исторических, литературных, мифологических и пр. сюжетов, к которым члены этнической группы обращаются постоянно в повседневной жизни, фактически живя в этом информационном пространстве и ретранслируя его на последующие поколения. И именно здесь возникает этническая нация-культура, которая в дальнейшем, используя многообразное наследие как ресурс не только собственной мобилизации, но и влияния на другие общества, может расширяться, превращаясь в мультиэтни-ческую нацию, в которой общее историко-культурное наследие становится основанием для межэтнического диалога, политической, правовой, а в перспективе – и общекультурной интеграции [Медушевский 2019в]. Отметим, что данное развитие не может рассматриваться как безусловное и предопределенное, т.к. для формирования наследия нужны определенные условия, связанные с уровнем ресурсной обеспеченности, необходимым не просто для воспроизводства культуры, а для ее качественного развития, накопления объектов – носителей информации и системного развития институтов широкой популяризации наследия. Наследие и его популяризация, на наш взгляд, также могут интерпретироваться в цивилизационном ключе, однако данный вопрос уже выходит далеко за рамки нашей работы.
Выводы
Таким образом, проведенное исследование представляет комплексную универсальную теоретическую модель развития этничности с опорой на примордиалистские категории, лежащие в основе ее становления, но в конструктивистском ключе, подразумевающем изменчивость и трансформацию восприятия этнической основы своей идентичности в контексте социогенеза. Представленный подход, безусловно, не претендует на всеохватность пространства «этнического», оставляя открытыми интерпретации многих вопросов формирования и корректирования индивидуальной и групповой идентичности этнической группы, присущих данной группе защитных и мобилизационных механизмов, вопрос нелинейности развития этнических сообществ и примеров их деградации и ассимиляции и др. Тем не менее предложенный подход представляет новый взгляд на процесс формирования и развития этничности, существующий, с одной стороны, в системе традиционных представлений о сути этногенеза, относимых к взглядам сразу несколь- ких ведущих научных школ в России и за рубежом, а с другой – представляющий новаторскую систему аргументации форм этнической интеграции с опорой на идею «знания об опыте» как фактор мобилизации этнической группы на разных стадиях ее интеграции. Принципиальным в данном случае становится введение в дискуссию об этносе таких понятий, как историческая память и историко-культурное наследие, которые ранее не применялись для обоснования этнической интеграции. Введение данных понятий в научный дискурс по проблеме открывает возможности для нового практикоориентированного изучения этнических сообществ и во многом позволяет решить проблему сравнимости этносов по принципу восприятия ими своей истории и структурирующих данную историю событий, повлиявших на общеэтническую мобилизацию.