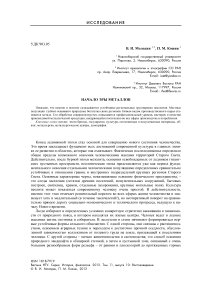Начало эры металлов
Автор: Молодин Вячеслав Иванович, Кожин Павел Михайлович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 10 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Показано, что именно в неолите складываются устойчивые региональные группировки населения. Местные популяции глубоко осваивают природные богатства своих регионов. Новым видом производственного сырья становится металл. Его обработка совершенствуется, повышаются профессиональный уровень мастеров и качество производимой металлическойпродукции, внедряющейся постепенно вовсесферы производства и потребления.
Неолит, эпоха бронзы, государство, культура, естественные и искусственные материалы, обжиг, металлургия, металлургические центры, демография
Короткий адрес: https://sciup.org/14737673
IDR: 14737673 | УДК: 903.05
Текст научной статьи Начало эры металлов
Конец ледниковой эпохи стал основой для совершенно нового состояния человечества. Это время закладывает фундамент всех достижений современной культуры в главных линиях ее развития и областях, которые она охватывает. Фактически послеледниковье определило общие пределы возможного освоения человеческими массами территорий Старого Света. Действительно, после бурной эпохи мезолита, освоения освобожденных от ледников гигантских пустынных пространств, неолитическая эпоха представляется уже как период фундаментального освоения отдельными человеческими популяциями определенных сравнительно устойчивых в отношении границ и внутренних подразделений крупных регионов Старого Света. Основные характерные черты, показывающие освоение физического пространства, – это следы заселения (остатки древних поселений, монументальных сооружений, бытовых построек, святилищ, храмов, отдельные захоронения, крупные могильные поля). Культура неолита может показаться современному человеку очень простой. В действительности, именно этот этап отмечает решительный перелом во всех сферах жизни человечества и знаменует хоть и медлительный (в течение тысячелетий!), но неотвратимый поворот на сравнительно прямую дорогу социально-экономического и технического прогресса, ведущую к началу Нового времени.
Люди избирают в определенных условиях конкретную стратегию выживания в зависимости от природного пояса, в котором находятся их жилые центры. Человек ведет в лесных массивах жизнь охотника и собирателя. В лесостепи и степи начинают формироваться первые устойчивые формы сельского общежития. С одной стороны, они связаны с растениеводством, освоением аграрных техник и переходом к достаточно прочной оседлости, обусловленной зависимостью коллективов от полевого труда на земле, прилежащей к поселениям человека. С другой стороны – начало животноводства и скотоводства; это способ освоения природного ландшафта в обширной степной, а затем и пустынной зоне, связанный с очень большим разнообразием форм рельефа – от равнин и плоскогорий до протяженных горных
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 10: Востоковедение © В. И. Молодин, П. М. Кожин, 2012
цепей и плато. Эти территории хоть и благотворны для проживающих популяций, но освоение их требует огромных коллективных усилий. По мере роста коллективов, совершенствования их адаптации к природной среде, человек все в большей степени способен успешно осваивать неблагоприятные для себя территории, преодолевая сопротивление природы. Все эти события, растягивающиеся на многие тысячелетия и в разных регионах Старого Света получающие различные направления развития и совершенствования, связаны с невероятным по объему, мощи и многообразию ростом человеческой культуры.
Собственно культура – это, с одной стороны, форма адаптации к среде, с другой – переход от видовых форм стадного выживания, связанного с определенными видами биологических сообществ, к сугубо человеческим способам организации социальной жизни. Культура – это, наконец, и форма обеспечения, сбережения череды наследующих друг друга поколений, которую предки находят возможным снабдить рациональным опытом организации жизненного пространства, системой общественных отношений, способами воспитания потомства и, главное, огромным запасом знаний, дающих человеку безопасность во враждебной природной среде, получение достаточного и полезного пищевого рациона, создание условий для воспитания будущей смены, выработку инструментов и приемов, способствующих общеполезному труду коллектива. Указанные параметры становления коллективов и форм жизнедеятельности ограничиваются довольно однообразным размеренным существованием человеческих групп в природной среде, которую люди, веками проживающие в устойчивой природной обстановке, осваивают невероятно глубоко и могут полноценно использовать для своих жизненных целей.
Однако в природе и обществе не существует неизменной стабильности. В послеледнико-вье меняется климат, а главное, любой период относительно спокойного проживания любой биологической популяции сопровождается неизменным и очень значительным ее ростом. Эти два равноценных природных фактора (природно-климатический и демографический) не дают человеку успокоиться на уже достигнутых уровнях существования, они неизбежно требуют постоянного внимания к меняющейся вокруг природной действительности и к поискам материального обеспечения для растущей популяции. Эти явления ведут к формированию особых форм человеческой культуры, позволяющей в каждом конкретном варианте развития общественной жизни преодолевать ситуации перенаселенности.
Этнология и особенно палеоэтнология – это научные области, формировавшиеся при наблюдении над жизнью современных групп населения, которые как бы остались в силу каких-то специфических условий в своем изначальном «первобытном» состоянии. По мере углубления наших знаний сравнительно простая картина, с которой исследователи-систематики XIX в. подходили к современным формам первобытной жизни, стала постепенно осложняться. Выявление последовательного ряда развития, указывающего на непрерывный равномерный прогресс человечества во всех сферах его бытия (как это делал Л. Г. Морган [1934], а вслед за ним Ф. Энгельс [1961]), оказалось очень непростой задачей 1. Здесь все относительно с точки зрения понимания прогрессивных и регрессивных направлений развития. Однако при всей сложности и многоплановости реальной картины восхождения человечества к современной культуре (а можно с определенностью утверждать, что такое восхождение, последовательное и неотступное, начинается уже с неолитической эпохи), в культурном развитии есть сравнительно небольшое число констант, которые приобрели всеобъемлющее значение. Одной из них являются некоторые этапы формирования производственнотехнического багажа человеческой культуры. В древнекитайском трактате «Каогунцзи», посвященном проверке качества исполнения работ в централизованных государственных мастерских, обозначено шесть видов производств (см.: [Кожин, 2011. С. 175–179]). Основой для такого деления оказались указания на различия исходных сырьевых материалов, на ос- нове которых создавались те или иные виды ремесленной продукции. Продолжая это древнее деление, можно сказать, что мы имеем дело с четырьмя видами естественных материалов (камень, дерево, ткани, кость) и двумя видами искусственных (керамика и металл). В течение всего неолитического периода уже присутствуют все четыре естественных материала и один (первый) из искусственных. Но здесь необходимо отметить одну очень важную особенность этого «искусственного» материала, в свою очередь, созданного из глины. Залежи глины, естественного продукта разрушения горных пород, имеются в мире почти повсеместно. Простота обработки этого материала в его естественном состоянии очень рано привлекла внимание человека. Первые глиняные изделия, даже необожженные, сохранились еще от позднепалеолитической эпохи, при этом характерно, что ранние скульптуры из глины, найденные в пещерах Франции, исполнялись приемами, обычными для обработки камня – обрезки, остругивания. Правда, фигурки из обожженной глины, обнаруженные на палеолитических стоянках Австрии, похоже, были уже лепными, т. е. их формовали в основном пальцы мастера: их оттиски формировали определенный скульптурный образ.
Однако неолитическая обработка глины сразу же обретает огромное хозяйственное значение. Из глины изготовляются многочисленные контейнеры для потребления и хранения пищевых продуктов 2. Причем применение глины без каких-либо ограничений позволяло увеличивать объемы таких контейнеров, что имело значение для более удобного хранения запасов, а с помощью закупоренных сосудов удавалось обезопасить помещенные внутрь продукты от вредителей и других видов порчи. Изготовление контейнеров стало очень ответственной технической отраслью, причем первоначально глиняный сосуд воспроизводил формы посуды, которая изготовлялась из плетений и дерева. Человек, таким образом, как бы экономил творческие усилия, воспроизводя формы, отработанные в этих естественных материалах, но часто значительно увеличивая их размеры. По мере развития обработки сырой глины человек отходил от первоначальных плетеных, деревянных и каменных прообразов, разрабатывая различные приемы изготовления собственно глиняной посуды. Однако, самое главное, он осознал возможность преобразования глиняного теста с помощью обжига из мягкой пластичной массы в твердый звонкий, не поддающийся сжатию и смятию материал. Конечно, при большом давлении, при падениях этот новый искусственный уже материал дробился, разбивался, но выгода, полученная при его обработке, искупала такие мелкие недостатки. Однако, кроме практического расширения знаний о свойствах материала, человек обретал первичное архетипное представление о возможностях преобразования исходных материалов, придания им новых полезных свойств. Это уже была подготовка к знакомству со свойствами и преобразованиями металлов 3.
Как можно полагать, следующим обстоятельством, которое связало металл с изначальным керамическим производством, была выработка видов и типов печей для обжига сырой глины в целях получения керамической продукции. Здесь многое зависело от разработки температурных и временных режимов обжига керамики, а также от использования разных материалов для конструирования стенок и сводов печей. Рано было замечено, что выбирались лучшие виды камня, да и лучшие виды глин, причем часто даже цветных глин, поскольку человек, имея в виду какие-то чисто утилитарные задачи, постоянно стремился создавать различного рода охранительные, благопожелательные символы и знаки. Они, согласно его взглядам, могли способствовать успеху того или иного вида труда и повышать полезность различных видов продукции. Такого рода символы стали наносить на стенки изготовляемых керамических изделий, используя для этого минеральные красители, различного рода нарезки, оттиски штампов, скульптурные налепы. Конечно, красители получали распространение не только в керамическом производстве. Различного рода рисунки, графики, символы, узоры сопровождают человеческий быт и общественную культуру, по всей видимости, с моментов ее зарождения. Здесь важно то, что за разнообразным и качественным сырьем человек устремлялся в предгорья. Но именно в предгорьях резко повышалась вероятность и возмож- ность того, что в качестве строительного материала для печей, в которых осуществлялась термическая обработка глиняных изделий, человек мог использовать многие разновидности металлических руд. При этом опыт подсказывал, что более высокий температурный режим дает (до определенного уровня повышения температур) самые совершенные и полезные в обращении образцы керамических изделий. Точка плавления меди составляет 1 053 °C – уровень, который уже в неолитическую эпоху был даже значительно превышен, т. е. вполне приемлемой оказывается гипотетическая процедура, связанная с открытием свойств металлов через обжиг керамики. Точнее, не с самим по себе открытием (оно могло быть сделано и при знакомстве с самородными видами металлов, того же золота или меди), а в связи с возможностью получения металлического сырья в значительных объемах, которые достигались, как становится понятно человеку древности, определенным уровнем нагрева «рудных» камней. Находя в остывших керамических печах различного рода слитки относительно чистой меди, человек понимал, что определенные виды используемых им камней при нагревании трансформируются в вещество, обладающее совершенно специфическими свойствами. Оно имеет определенную пластичность, поддается ковке и при этом не раскалывается, а только изменяет внешние формы. В расплавленном виде это же вещество может заполнять пустоты и при остывании сохраняет их форму, т. е. ковка и литье становятся понятны и достижимы раннему мастеру-керамисту. Характерно, что в некоторых культурах, сохранивших черты «первобытной простоты», появлялись такие своеобразные ремесленные семьи, в которых мужчина занимался металлургией и металлообработкой (к примеру, был кузнецом), а женщина изготавливала керамику [Drost, 1968. S. 161–163].
Все высказанные соображения позволяют значительно сближать время между становлением керамического и металлургического производства, однако реально временной зазор между внедрением подобных ремесленных видов продукции был достаточно велик. Это вполне объяснимо самой спецификой раннего производства. Мастер-керамист мог находить слитки металлов в печи, но он был занят своим делом. Чтобы начать новый вид производства, не существовавший прежде, человеку, точнее, человечеству нужны были значительные промежутки времени, чтобы освоиться с идеями о том, зачем, кому и для каких целей нужна была эта новая невиданная продукция и как организовать ее производство и массовое использование. Это всегда долгий процесс в человеческом сознании: переход от случайности к гармоничной систематичности. Основными видами сырья для изготовления неолитических орудий были некоторые разновидности камня, кость и дерево. Обработка каждого из этих материалов требует специальных технических знаний. Куску металла с помощью ковки легче придать нужную форму. Однако человек очень настороженно относится к использованию новых непривычных материалов. Конечно, трудно угадать все возможные мысли, которые возникали у людей, когда они сомневались в свойствах неведомых прежде материалов и долго сопротивлялись их внедрению в свою хозяйственную и производственную деятельность. Впрочем, кое-что подсказывают этнографические наблюдения. Есть виды предметов, которые безоговорочно начинают использовать, а затем и изготовлять – когда человек видел непосредственную значительную пользу от новшества.
Несомненно, что «наиболее значительными моментами исторического процесса в древности, происходившего на любой территории, являются переходные эпохи от каменного века к эпохе бронзы, от эпохи бронзы к эпохе железа и т. д.» [Молодин, 1985. С. 177]. Это положение, имеющее общеметодологическое значение, было апробировано нами на материалах отдельных крупных регионов, прослеженных на значительную хронологическую глубину. Однако не следует полагать, что в отношении металла все было изначально просто. Самородного металла, меди и золота, оказалось недостаточно, чтобы начать расширенное производство. Качество же первоначальных металлических изделий не было достаточно высоким, чтобы они могли перспективно заменить всю наличную каменную продукцию. Лишь разработка технических усовершенствований придавала медным изделиям особую остроту и прочность, т. е. качество, необходимое для производственных орудий. Более редкий металл – золото, именно в силу своей редкости обретает устойчивое место в определенной производственной сфере. Его начинают употреблять для изготовления украшений, которые раньше, еще с палеолита, изготовлялись из кости и камня. В первобытном обществе украшения имеют несколько иное значение, чем в современном быту и общественной жизни. Эти предметы охраняли своего владельца (апотропеи), отпугивали «враждебные силы» и выполняли другие магические функции; они могли быть также знаками власти, указателями правовых преимуществ или владельческих прав (инсигнии). Выполнение их из золота было удобно в силу того, что они не могли разбиваться, как камни или кость, а в случае повреждений предметов их можно было легко реставрировать. Пожалуй, именно отсюда берет начало приоритет различного рода украшений перед изготовлением металлических орудий труда. Последние требовали очень многих особенных качеств, а в золотых украшениях преобладало одно основное: легкая возможность сохранности. И это качество, по всей видимости, сыграло роль в том, что мягкий редкий металл - золото (а в дальнейшем и серебро, когда его научились выплавлять) - стал мерилом ценности в обществах, переходящих от исключительно родственных связей к новым формам отношений, в которые включаются все большие массы населения, в основном уже не связанные узами родства. Земледельческие общины могли сохранять внутри себя стойкие коллективы, цементируемые родственными связями. Тогда как на политическом пространстве, подчиненном единой воле правителя, монарха, эти коллективы могли соседствовать с другими, неродственными.
Итак, изначально плавка и ковка металла могли быть освоены почти случайно, более сознательным вопросом становилась сфера приложения нового материала и ее расширение. Человек в силу привыкания не просто готов мириться с трудностями обработки привычного материала, но даже способен закрывать глаза на положительные свойства вновь обретенного сырья и его необычайные возможности. Конечно, особо привлекательным для исполнителя свойством нового материала являлась его пластичность, даже в холодном виде. Пластичность предохраняла этот материал от случайного разрушения, а главное, позволяла достаточно свободно увеличивать размеры изделий. Мастера не сдерживал небольшой размер заготовок, и он имел возможность изготовлять крупные монолитные изделия. Это свойство, по-видимому, оказалось очень важным, так как далеко не всегда древнейшие виды изделий из меди и ее сплавов имели преимущество, скажем, перед каменными инструментами с точки зрения их остроты и режущих возможностей. Все это достигалось постепенно, в процессе непрерывного использования новых материалов и громадной работы по накоплению как производственного опыта в целом, так и новых перспективных приемов обработки.
Вопрос о том, в каких отраслях начинало доминировать металлическое сырье, в значительной мере связан с изучением человеком природной среды, в которой находились и могли находиться металлические руды и самородные металлы. Месторождения, как уже говорилось, связаны с горными ландшафтами и далеко не столь часты, как источники привычных естественных сырьевых материалов. Усиление тенденции использования металла начинало воздействовать на саму структуру общественных отношений. Самый простой вариант развития таких структур возникает тогда, когда соседние коллективы заключают между собой соглашение о праве совместного или поочередного использования месторождения. Другая форма отношений связана с возникновением обмена металлического сырья и / или продукции, пользовавшихся большим спросом, на другие необходимые материалы и изделия. Далее в круг отношений, формировавшихся первоначально как дуальные, могли вовлекаться более отдаленные группировки и коллективы, и обмен становился поэтапным. Повышение уровня добычи сырья и расширения его обработки создавало в коллективах-донорах достаточно большие и постоянно растущие объемы продукции, которая далеко не всегда сразу потреблялась или обменивалась. Таким образом, создавались крупные материальные богатства, в обладании которыми оказывались заинтересованы ближние и дальние соседи, познавшие полезные свойства металла. Нам мало что известно о первоначальных моментах накопления материальных благ, количественно превышающих нормальные общественные потребности. Широчайший спектр возможностей может быть определен при анализе групп, сохранивших «первобытные установления» в замкнутом, обособленном от окружающих коллективов существовании или вновь обретших их (см.: [Чебоксаров, Чебоксарова, 1971]).
Подобные вопросы начинают проясняться при анализе правил и порядков, связанных с древними погребальными обрядами. В неолитических коллективах сородичей хоронили на сельских кладбищах не только с учетом последовательности захоронений, но и с оглядкой на их прямые родственные отношения с уже лежащими на кладбище предками. Эпоха металла показывает новые возможности соотнесения живых и мертвых, предков и вновь умерших.
Если в неолитических могилах погребаемого снабжали необходимым скарбом и едой, которые требовались ему либо на период достижения «царства мертвых», либо для безбедного существования вплоть до очередных жертвоприношений, совершавшихся коллективом, то теперь кладбища приобретали совершенно иной вид. На них появлялись могилы поразительного богатства. Создавалось впечатление, что человек забирал с собою в потусторонний мир всю приобретенную в течение жизни личную собственность, которая выделяла его из коллектива при жизни и утверждала это выделение в «вечности». Мы затруднимся сейчас определить те или иные приоритеты: порождено ли такое неравное распределение богатств исключительно внутренними правилами общежития в коллективе, либо связано с участием того или иного умершего в производстве ценной продукции, ее сбыте, обмене или возможном приобретении этих богатств в результате войн и грабежей. Говоря о последних, отметим, что не следует идеализировать смену чисто биологических отношений в группах на систему человеческого гуманитарного взаимодействия и искать в этих малопонятных и малоизвестных нам порядках тот безоблачный «золотой век», который во многих «первоначальных культурах» хотели видеть древние авторы (см.: [Бунак, 1980. С. 149–209, 250–277, 303–307]).
Наметив очень приблизительно сферы влияния новых видов производства на общество и общественные отношения, необходимо вернуться к самому развитию производственных процессов. Конечно, знания, которыми мы располагаем благодаря археологическим исследованиям, т. е. полученные путем непосредственного вторжения в мир древних, пока еще недостаточны для того, чтобы адекватно реконструировать реальные ситуации, связанные с функционированием и развитием древнего производства. Однако, считая металл не только полезным, но и престижным материалом, обретшим доминирование в древнем мире, можно строить определенную систему, показывающую его воздействие на разные стороны общественной и бытовой жизни человека.
Древнекитайские философы по-своему пытались разрешать подобные проблемы, связанные с общественным устройством, в пределах своего региона. Первые систематические шаги в этом направлении были сделаны в книге «Шуцзин», когда местопребывание императора, высшей социальной силы Поднебесной, признавалось центром мироздания, а исходящая от него благая сила (а такая сила в представлении древних мыслителей была не только моральной, но и материальной) убывала по мере отдаления от трона. Модулем, определяющим ступени такого уменьшения, объявлялось расстояние в 500 ли 4. Такой догматический подход все же указывает направление решения вопроса о возможностях создания единого духовного пространства, в котором интересы, устремления и чаяния абстрактного «народа» могут получать адекватное выражение. При этом китайцы не обращали внимания на возможность формирования альтернативных решений общественных задач по мере удаления от «благого центра».
Фактически такую же схему, но без обозначения единого модуля, можно строить и в отношении распространения культуры металлов, хотя центром такого распространения оказывается не политика, а ситуация, связанная с производством и определенной его культурой. Говоря о производстве, приходится иметь в виду, что условия его существования всегда определяются четкими стабильными факторами, начиная с качества и запасов сырья, производственных сил коллективов ремесленников определенных квалификаций, условий производственной деятельности (организации мастерских, условий труда, взаимоотношений работников), организации доставки и сбыта продукции.
Все эти факторы оказываются полноценны в условиях близости и доступности сырьевых запасов. По мере удаления от них и появления посредников, через которых удаленные потребители получали эти запасы, условия работы мастеров на периферии ухудшались, и возможности качественного совершенствования продукции снижались. Вряд ли в настоящее время можно определить какие-то, даже подвижные, меняющиеся модули такого снижения, слишком много факторов оказывали на них воздействие. Ясно лишь, что центр, в котором рудные сырьевые запасы были свободно доступны, мог путем экспериментов добиваться разнообразных и наивысших качественных успехов. Именно свобода использования сырья делала мастера открытым для поиска новых средств выработки продукции. Он не испытывал опасений, что неудачный опыт лишит его возможности изготовить необходимое для потребления количество продукции. Таким образом, каждый металлургический металлообрабатывающий центр иррадиировал вовне определенные схемы обработки продукции, которые, по мнению высококвалифицированных мастеров, давали наиболее полезные виды металлических изделий. Периферийный мастер в поисках повышения качества продукции больше рассчитывал на свое трудолюбие, чем на эксперименты с сырьем. В связи с этим появляется возможность периодизации производственных циклов в самом центре и установления связей между центром и разными районами периферийного производства 5.
Следует отметить, что такие значительные производственные достижения, как обработка металла, не могут ограничиваться пределами каких-то замкнутых, обособленных культур. Появившись в крупных центрах, объединявших и добычу, и обработку металла, в дальнейшем производство может распространяться на очень значительные расстояния от основных очагов. Такой эффект создает условия для возникновения центростремительных тенденций в достаточно больших регионах 6, способствует выработке единой технической культуры, а обмен достижениями этой культуры и особенно необходимость получения сырья и наиболее совершенных готовых изделий способствуют оформлению крупных цивилизационных единств. Подобный подход, опирающийся на многогранную производственную деятельность, может вывести археологический материал в сферу исследований взаимодействия языковой среды с социальной и политической обстановкой соответствующих регионов. Результаты подобных исторических коллизий известны. Несмотря на то, что кое-где сохранилась связь определенных языковых систем с устойчивой производственной, социально-экономической и духовной средой, утвердить четкие и обоснованные линии, показывающие в ретроспективном освещении путь от современного этнокультурного состояния всех этих направлений, являющихся слагаемыми цивилизационных единств, в глубокую дописьменную древность, в настоящее время нет возможности.
Медь со многими ее сплавами, включая бронзу, фактически сформировала основные производственные особенности изготовления ремесленной металлической продукции, поэтому внедрение железа имело совершенно иной, по сравнению с первоначальными шагами бронзовой индустрии, характер. Железо, особенно метеоритное, сначала представлялось редким металлом, причем его тугоплавкость (железо плавилось при температуре более 1 500 °C) создавала определенные трудности при обработке. В Китае железо приобретает большое производственное значение уже в эпоху Чжаньго [Wagner, 1993].
Итак, рассмотрев в самом общем виде эволюцию общественного производства в эпоху перехода от домашнего изготовления примитивной бытовой продукции, всего лишь облегчающей труд человека, к деятельности по созданию различного рода инструментов, орудий труда, хозяйственных и бытовых предметов, организованной в специальных мастерских, можно заметить, что значительное ускорение развитию производственной деятельности человека придало включение в ее круг новых видов сырья, каковыми явились керамика и металл. Эти виды сырья, добыча, а вернее, получение которых потребовала создания особой сферы производства, послужили основанием и мощным толчком для создания своеобразных форм культуры, охватывающей все сферы жизнедеятельности человека и коллектива, и, благодаря интенсивному духовному и инженерно-техническому творчеству, легли в основу современных региональных цивилизаций. Фактически все открытия в разнообразных областях науки и техники могут быть возведены к этим первым опытам работы с вновь открытыми сырьевыми материалами. Физика, химия, технические и точные науки получили первоначальный импульс в завершающей фазе неолитической эпохи, когда век камня сменяется веками металлов.
THE BEGINNING OF THE METALS’ EPOCH