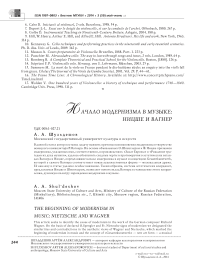Начало модернизма в музыке: Ницше и Вагнер
Автор: Шульдешов Артм Александрович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Искусствознание
Статья в выпуске: 3 (59), 2014 года.
Бесплатный доступ
В данной статье автор поставил задачу выявить причины возникновения модернизма в творчестве немецкого композитора Р. Вагнера. На основе объявленных О. Шпенглером и Ф. Ницше признаков модернизма, указанных ими, соответственно, в произведениях «Закат Европы» и «Рождение трагедии их духа музыки», удалось обозначить сходные черты и противоречия в эстетических взглядах Вагнера и Ницше, определившие начало модернизма в музыке и концепцию Gesamtkunstwerk, которой у самого Вагнера соответствует новая художественная форма - музыкальная драма. Её анализу в статье уделено особое внимание. Таким образом, система эстетических координат, предлагаемая Ницше и Шпенглером, позволяет понять вклад Вагнера в становление этого направления, духовную палитру зарождения модернизма в музыке.
Короткий адрес: https://sciup.org/14489752
IDR: 14489752 | УДК: 008:1-027.21
The beginning of modernism in music: Nietzsche and Wagner
This article seeks to identify the cause of modernism in the work of the German composer Richard Wagner. On the basis of declared O. Spengler and Fr. Nietzsche signs of modernism we designated the similarities and contradictions in the aesthetic views of Wagner and Nietzsche, which marked the beginning of modernism in music and the concept of «Gesamtkunstwerk» - new art form - a musical drama. Special attention is paid for analysis of musical drama. Thus, the system of coordinates aesthetic offered Nietzsche and Spengler, allows us to understand the role played by Wagner in the formation of this direction, spiritual palette origin of modernism in music
Текст научной статьи Начало модернизма в музыке: Ницше и Вагнер
Модернизм можно охарактеризовать как разрыв художественного творчества с предыдущим историческим опытом, стремление к нетрадиционным началам в искусстве, обновление художественных форм. Будучи антитезой классики и непосредственно её вырождения на последнем этапе в так называемом академизме, он предстал в виде творчества Скрябина, Пикассо, А. Белого и др. Согласно Освальду шпенглеру, модернизм в музыке связан с реформаторской деятельностью Рихарда Вагнера, с его идеей gesamtkunstwerk. Полагая окончательно развившуюся ещё во времена Баха музыкальную форму в качестве идеала, отмечая затем титанические усилия Бетховена, направленные на удержание своего гения в рамках этой формы, шпенглер упрекает Вагнера в разрушении этого стиля. Следуя за его мыслью легко прийти к выводу о том, что всякая попытка выйти за рамки искусства, сложившиеся в европейской культуре, ещё не успевшей заслужить звание цивилизации, со всей очевидностью является проявлением модернизма. Наряду с этим шпенглер восхищается мастерством Вагнера, сравнивая его палитру изобразительных средств с импрессионистской: «Из красочных штрихов и пятен выколдо-вать в пространстве мир — к этому сводилось последнее и утончённейшее искусство импрессионистов. Вагнер достигает этого тремя тактами, в которых уплотняется целый мир души. Краски звёздной полуночи, тянущихся облаков, осени, жутко-унылых утренних сумерек, неожиданные виды залитых солнцем далей, мировой страх, близость рока, робость, порывы отчаяния, внезапные надежды, впечатления, которые ни один из прежних музыкантов не счёл бы достижимыми, — всё это он с совершенной ясностью живописует несколькими тонами одного мотива» [4, с. 323]. Вот только все эти детали, согласно шпенглеру, носят декадентский характер. Так или иначе, именно в творчестве Вагнера шпенглер увидел кризис искусства, в частности музыки.
Ответить на вопрос, почему это случилось, нам может помочь самая первая работа Фридриха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки. Предисловие к Рихарду Вагнеру» [3].
По мнению Ницше, Вагнер был призван вернуть немецкую музыку на высоту, достигнутую Бахом и Бетховеном, и возродить то «дионисическое начало», которое было свойственно культуре греков, утраченное в процессе развития европейской культуры. С этой потерей и был связан общий упадок европейской культуры, охарактеризованный немецким мыслителем как «выступившее вперёд господство разумности, практический и теоретический утилитаризм, да и сама демократия, современная ему, — представляют, пожалуй, только симптом никнущей силы, приближающейся старости, физиологического утомления» [3, с. 52].
Вагнер упрекает в этом христианство: «свободный грек, который считал себя высшим творением природы, мог в состоянии радостного упоения бытием создать искусство. Христианин же, одинаково отрицавший и природу, и самого себя, мог приносить жертвы своему богу только на алтаре отречения, но не мог приносить ему в дар плоды своих трудов; наоборот, он думал быть ему угодным, отказываясь от всяческого личного, смелого творчества» [1, с. 114]. Дио-нисизм — это начало, прежде всего, жизненное, соглашается с ним Ницше. «Христианство, — пишет он, — с самого начала, по существу и в основе, было отвращением к жизни и пресыщением жизнью, которое только маскировалось, только пряталось, только наряжалось верою в “другую” и “лучшую” жизнь» [3, с. 53].
Вместе с тем «дионисическое начало» — начало языческое и мифологическое. Без мифа, считал Ницше, всякая культура теряет свой здоровый творческий характер природной силы; лишь обставленный мифами горизонт замыкает целое культурное движение в некоторое законченное целое. Все силы фантазии и аполлонических грёз только мифом спасаются от бесцельного блуждания. «Музыка и трагический миф, — пишет Ницше, — в одинаковой мере суть выражение дионисической способности народа и неотделимы друг от друга. Они совместно коренятся в области искусства, лежащей по ту сторону аполлонизма» [3, с. 155].
Дионисическое начало есть торжествующее начало самой природы, которое олицетворял бог весеннего возрождения природы Дионис. Ницше приводит здесь следующее красочное сравнение: «превратите ликующую песню “К Радости” Бетховена в картину и если у вас достанет силы воображения, чтобы увидать “миллионы, трепетно склоняющиеся во прахе”, то вы можете подойти к Дионису» [3, с. 62]. Это начало, там, где оно бесконтрольно прорывалось наружу, превращалось в вакханалию. «Тут, — как об этом пишет Ницше, — спускалось с цепи самое дикое зверство природы, вплоть до того отвратительного смешения сладострастия и жестокости, которое всегда представлялось мне подлинным “напитком ведьмы”» [3, с. 64].
Дионисизм сам по себе ужасен и безмерен. Для того чтобы стать основой искусства, границы его должны быть очерчены аполлоническим началом. Следовательно, главный вопрос здесь — вопрос любимой греками меры — вопрос художественной формы, которая и позволяет нам пережить ужасное и не только не сойти с ума от ужаса, но и пережить то, что Аристотель назвал катарсисом, — очищение, просветление.
Таким образом, превосходство греческого искусства, и прежде всего классической трагедии, заключалось в гармоничном сочетании двух начал: дионисического и апол-лонического. «Было бы большим выигрышем для эстетической науки, — пишет Ницше, — если бы не только путём логического уразумения, но и путём непосредственной интуиции пришли к сознанию, что поступательное движение искусства связано с двойственностью аполлонического и дионисического начал, подобным же образом, как рождение стоит в зависимости от двойственности полов, при непрестанной борьбе и лишь периодически наступающем примирении» [3, с. 59].
Аполлоническое искусство — это искусство пластических образов, в свою очередь непластическое искусство — это искусство музыки, искусство Диониса. Под воздействием музыки, соответствующей образу и понятию, последние приобретают возвышенный смысл. «Таким образом, — пишет Ницше, — дионисическое искусство действует обычно на аполлонический художественный дар двояко: музыка побуждает к символическому созерцанию дионисической всеобщности, музыка затем придаёт этому символическому образу высшую значительность» [3, с. 120]. заключая эту мысль, Ницше делает вывод о способности музыки порождать трагический миф как значительнейший пример.
Рождённая на идеальной почве мифа трагедия не нуждается в кропотливом портретировании действительности. Ницше противопоставляет проявления тоски по первоначальному и естественному, выраженные соответственно в образах «идиллического пастуха», представляющего собой изображение «суммы книжных иллюзий природы», и «сатира», который выступает в качестве «подлинной истины природы». Таким образом, на первый план выходит превозмогающее все пропасти между людьми чувство всеобщности, возвращающее нас к первозданному. «Метафизическое утешение, — пишет Ницше, — с которым нас отпускает всякая истинная трагедия, то утешение, что жизнь в основе вещей, несмотря на всю смену явлений, несокрушимо могущественна и радостна, — это утешение с воплощённой ясностью является в хоре сатиров, в хоре природных существ, неистребимых, как бы скрыто живущих за каждой цивилизацией и, несмотря на всяческую смену поколений в истории народов, пребывающих неизменными» [3, с. 82].
По мнению Ницше, сценическое действо было видением хора сатиров, который, в свою очередь, являлся самоотражением зрителя. Процесс отказа от своей индивидуальности через погружение в природу мифа, следует полагать, стоит во главе развития драмы. «Очарованность есть предпосылка всякого драматического искусства. Охваченный этими чарами, дионисический мечтатель видит себя сатиром и затем, как сатир, видит бога, то есть в своём превращении зрит новое видение вне себя, как апол-лоническое восполнение его состояния. С этим новым видением драма достигает своего завершения» [3, с. 86].
Коль скоро основу греческой трагедии составлял миф, Еврипид, использовавший его только как материал для художественной обработки, а затем и вовсе поставивший на сцену зрителя взамен трагического героя, обрёк её, по выражению Ницше, на «самоубийство». Стремление Еврипида вслед за Платоном явить собой противоположность «безрассудного поэта», взяв за основу сократовское положение: «Всё должно быть сознательным, чтобы быть добрым», также не пошло трагедии на пользу. Эстетический сократизм — смертоносный для трагедии принцип, поборовший дионисизм в искусстве. Платон под давлением Сократа в своей драме напоминает Еврипида. Мысль у него перерастает искусство и принуждает последнее примкнуть к стволу диалектики со скрытыми в её существе оптимистическими элементами. Эти элементы вытеснили дионисическое начало из трагедии и в ко- нечном счёте привели её к вырождению.
Оптимизму удалось с ужасающей быстротой снять и с музыки её дионисическое предназначение и придать ей характер скорее увеселительный, подражательный, чем мифообразующий, одновременно с тем дав начало жанру оперы. Ницше не принимал как нечто серьёзное современную ему европейскую оперу. Поэтому он и связывал определённые надежды с Вагнером и его идеей искусства будущего, который также полагал героический миф и дионисическое начало в качестве основных составляющих трагедии.
Но вопрос в том, удалось ли Вагнеру гармонично соединить в своём творчестве Диониса и Аполлона? По мнению А. П. Коптяева, Вагнер излишне увлёкся музыкальными элементами, чрезмерно усложнившими его произведения, отказавшись от простоты и естественности музыки и самого действа: «Искусство Вагнера — сложное, громоздкое и серьёзное, в истинном значении этого слова, — искусство яркого полифониста, избегавшего не только унисона, но и гомофонную гармонию, искусство, которое сам Ницше впоследствии сравнивал с готическим стилем, — говорившее преимущественно на языке религиозных формул, лишённое непосредственности, простоты и южного веселия, искусство почти потерявшее ритм, едва ли могло ответить диониси-евскому культу, как его определил Ницше, требующему лёгкости, ясных, ритмических, танцевальных форм» [2, с. 472].
Относительно вопроса драматической составляющей искусства будущего Вагнер и Ницше сходились во мнении, что в основе его должен быть героический миф, итогом которого является гибель или перерождение героя. Но здесь Вагнера постигло то, от чего предостерегал Ницше, — торжество Аполлона, то есть разумного начала. Не гибель и последующая очистительная сила её воздействия, а призыв к действию и оптимизм содержатся в его сочинениях.
Надежда, которую Ницше возлагал на
Вагнера, оказалась тщетной. Вагнер пренебрёг предостережениями Ницше, увлёкшись поиском разнообразнейших форм, богатей- ших красок, и воплотил победу Аполлона в своём творчестве, став провозвестником модернизма в музыке.
Список литературы Начало модернизма в музыке: Ницше и Вагнер
- Вагнер Р. Искусство и революция//Избранные работы. Москва: Искусство, 1978.С. 107-141.
- Ежемесячные сочинения. Литературный журнал И. Ясинского. Санкт-Петербург: Типография С.Н. Цепова, 1900. № 2, 3. С. 175.
- Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм//Сочинения: в 2 томах. Москва: Мысль, 1990. Т. 1. С. 47-157.
- Шпенглер О. Гештальт и действительность//Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Москва: Мысль, 1998. 663 с.