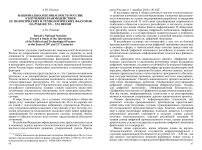Национальная безопасность России: к изучению взаимодействия ее политических и технологических факторов на рубеже XX - XXI веков
Автор: Пинчук А.Ю.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 66, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается взаимосвязь между разнообразными политическими и экономическими факторами, которые определяют степень защищенности российской государственности от внешних и внутренних угроз на современном этапе ее развития. Главное внимание уделяется раскрытию взаимосвязи политических и технологических факторов, а также оценке их роли в системе национальной безопасности. Осмысливаются представления современного Российского государства в сфере обеспечения национальной безопасности применительно к науке и технологиям. Широкое внедрение в экономику России цифровых технологий влечет за собой многообразные и сложные изменения в политической сфере, в системе политических взаимоотношений в обществе. В частности, меняются формы и модели политического взаимодействия. В этой ситуации, что естественно и закономерно, изменяются старые и возникают новые угрозы национальной безопасности России, и противодействие этим угрозам в первые десятилетия XXI в. стало жизненно важной задачей Российского государства. По мнению автора статьи, научно-технологическое развитие России является формой реагирования на вызовы и угрозы национальной безопасности, а это, в частности, требует совершенствования правового регулирования деятельности государства в сфере обеспечения национальной безопасности России.
Российская федерация, национальная безопасность, экономическая безопасность, технологическая безопасность, технологическая революция, научно-техническая политика, цифровая экономика, историческая память
Короткий адрес: https://sciup.org/149127060
IDR: 149127060
Текст научной статьи Национальная безопасность России: к изучению взаимодействия ее политических и технологических факторов на рубеже XX - XXI веков
Toward a Study of the Interaction of Its Political and Technological Factors at the Turn of 20th and 21st Centuries
Активное изучение проблематики национальной безопасности России на современном историческом этапе ее развития со всей очевидности устанавливает взаимосвязь между разнообразными политическими и экономическими факторами, определяющими степень защищенности российской государственности от внешних и внутренних угроз1. Особую роль в системе национальной безопасности России играет взаимосвязь политических и технологических факторов.
Вполне очевидным представляется то, что главным механизмом реального, а не декларативного развития национальной экономики России является промышленная компонента, помноженная на постиндустриальные инструменты. Но что тогда может обеспечить этот промышленный рост? Исключительно конкурентоспособность российского производства. Однако сложно выделить какие-либо устойчивые инструменты обеспечения этой конкурентоспособности, помимо научно-технологического развития производственного сектора.
В мире немало стран, где в условиях технотронного общества сфера услуг замещает реальное производство. Но в их перечне нет ни одной с геополитическими амбициями, огромностью России и сопутствующим набором внешних и внутренних угроз. Поэтому иллюзия возможности полноценной эволюции через некие цифровые трансформации без развития реального сектора, который, якобы, каким-то образом получит пост-толчок, представляется абсолютно утопичной.
Российская Федерация зафиксировала свое представление о цели и основных задачах научно-технологического развития в Стратегии научно-технологического развития, утвержденной указом Прези- дента России от 1 декабря 2016 г. № 6422.
В настоящее время в общем контексте научно-технологического развития ключевым системообразующим элементом представляются изменения на основе массированной разработки и внедрения цифровых технологий. В этой связи трансформация современного глобального общества в целом и российского, в частности, позиционируется под неким общим флагом цифровизации. В общественную риторику вошли термины цифровой глобализации, цифровой трансформации, а в государственные концептуальные и нормативно-правовые акты в качестве доктрин и решений введены понятия цифровой промышленности, цифровой экономики.
В российских условиях мы столкнулись с тем, что из базовой промышленной основы идеология цифровой экономики сместилась в смежные сферы, в значительной мере понизив присутствие индустрии. Базой цифровой экономики в российских условиях почти исключительно оказались информационные технологии и финансовый сектор.
Так, заявленная цель национального проекта «Цифровая экономика» заключается в увеличении внутренних затрат на развитие цифровой экономики, создании устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, использовании преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями3. Паспорт национального проекта включает в себя шесть федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление». Как мы видим, информационные технологии и их регулирование являются основным содержанием данного национального проекта.
Однако финансовые и информационные технологии вне реального сектора промышленного производства представляют собой лишь сопутствующие, условно «трансакционные», процессы без полноценного производственного ядра. Конечно, современный мир в сфере реализации цифровых подходов движется в сторону комплексных решений, стандартов и моделей, однако следует отметить неполноценность текущей российской ситуации. В теории сектор цифровой промышленности учтен, однако реальные практические усилия государства по развитию цифровой экономики фактически его игнорируют.
Важно также определять, каким образом планы по научнотехнологическому развитию государства корреспондируются с угрозами национальной безопасности на рубеже XX - XXI вв., так как процесс исторического развития формирует новые угрозы и риски, при этом являясь и определенной формой реакции на вызовы.
Так, действующая Стратегия национальной безопасности России, формулирующая национальные интересы и стратегические национальные приоритеты страны, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление ее национальной безопасности, определяет, что конкуренция между государствами все в большей степени охватывает ценности и модели общественного развития, человеческий, научный и технологический потенциалы. Несомненно, речь идет, в первую очередь о конкуренции во внедрении и продвижении технологий и последствия этого.
Приэтом Стратегия национальной безопасно стиРо ссии фиксирует представления государства в сфере обеспечения национальной безопасности применительно к науке и технологиям. В этой связи в ней определены стратегические цели технологической эволюции: развитие системы научных, проектных и научно-технологических организаций, способной обеспечить модернизацию национальной экономики, реализацию конкурентных преимуществ Российской Федерации, оборону страны, государственную и общественную безопасность, а также формирование, с учетом пережитого и накопленного опыта, научно-технических заделов на перспективу.
Негативным же фактором считается отставание России в развитии высоких технологий. Указанное представление прямо корреспондируется со Стратегией научно-технологического развития, в которой отмечается следующее: «...Сохраняется проблема невосприимчивости экономики и общества к инновациям, что препятствует практическому применению результатов исследований и разработок... Практически отсутствует передача знаний и технологий между оборонным и гражданским секторами экономики... эффективность российских исследовательских организаций существенно ниже, чем в странах-лидерах... слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с реальным сектором экономики... государственные инвестиции в человеческий капитал фактически обеспечивают рост конкурентоспособности других экономик... сохраняется несогласованность приоритетов и инструментов поддержки научно-технологического развития Российской Федерации на национальном, региональном, отраслевом и корпоративном уровнях, что не позволяет сформировать производственные цепочки создания добавленной стоимости высокотехнологичной продукции и услуг, обеспечить наибольший мультипликативный эффект от использования создаваемых технологий...
В условиях значительных ограничений других возможностей развития Российской Федерации указанные риски и угрозы становятся существенным барьером, препятствующим долгосрочному росту благосостояния общества и укреплению суверенитета России...».
Отдельный интерес представляет пункт 69 Стратегии национальной безопасности России. Утверждая, что одним из главных 68
направлений обеспечения национальной безопасности в области науки, технологий и образования является повышение уровня технологической безопасности, в том числе в информационной сфере, указанное положение подтверждает тезис о серьезном уклоне, сделанном в настоящее время от промышленного развития в сторону информационных технологий.
Важно отметить еще одно пересечение представлений государства в сфере обеспечения национальной безопасности и научно-технологического развития. Пункт 70 Стратегии национальной безопасности России определяет инструменты решения задач национальной безопасности России, и среди них выделяется развитие перспективных высоких технологий.
Следует учитывать и то, что проблемы цифровой трансформации и технологического рывка оказывают решающее воздействие на процесс формирования «образа будущего Российской Федерации». Очевидно, что социальные взаимосвязи, а за ними и социальная модель самого общества коренным образом изменяются под влиянием внедрений технологий, что на определенном этапе меняет и социальные стандарты. Связано это также с социальными и психологическими изменениями личности, возникающими вследствие широкого внедрения новых технологий.
Конечно же, эти социальные и психологические изменения влекут за собой очевидные политические последствия. Трансформируется и система взаимоотношений в политической сфере.
Уже сейчас мы наблюдаем то, каким образом формы политического взаимодействия и политической борьбы прямо зависят от технологических решений. Интернет стал одним из основных коммуникационных и мобилизующих факторов. Митинги на улице практически всегда предваряются социальными сетевыми группами, а последующий вывод людей на улицы также осуществляется с помощью сетевых коммуникаций. В этом смысле, например, «цветные революции» устойчиво опираются на технологии использования Интернета как мобилизующего, стимулирующего и координирующего центра.
Меняется и формат политического ландшафта. Появились первые политические Интернет-протопартии. К тому же формат политического присутствия в Интернете стал одним из основных инструментов реального политического участия общества в жизни государства. Да и само государство все более взаимодействует с обществом с помощью цифровых платформ, уменьшая или вообще устраняя прямые физические контакты чиновников и общества.
Это происходит как в сфере социальной коммуникации, при реализации государственных услуг (многофункциональные центры, сайты государственных услуг и т.п.), так и в сфере политического взаимодействия. Использование сетевых платформ для проведения политических акций, в том числе выборов, становится новой реаль- ностью. Технологии, которые меняют формат взаимосвязей, влияют и на их субъекты.
С другой стороны, переход значительной части процессов политического и социального взаимодействия в новые технологии, и в первую очередь в Интернет, коренным образом меняет и формат угроз безопасности. Потому что угрозами повреждения телекоммуникационных систем, влияния на выборы через специальные программы, влияние на результаты голосования или их срывы, на общественное сознание через распространение дезинформации или дозированной информации - это те угрозы, которые возможны только при наличии определенного уровня технологического развития.
С точки зрения практической составляющей в информационной среде уже сейчас сформирован набор угроз, противодействие которым стало жизненно важной задачей государства. Прежде всего к ним относятся кибертерроризм, кибершпионаж и все виды киберпреступности.
На фоне проблем, связанных с определением соотношения безопасности и развития в условиях нового технологического уклада и перехода от привычных для XX в. стереотипов взаимодействие власти общества, государства, международных структур и конкретных личностей в первые десятилетия XXI в. обостряется проблема, которую принято называть идеологической.
Стереотипом и формальным объяснением значительного количества сложностей современного российского общества в условиях научно-технологических вызовов, стало принято называть отсутствие некоей объединяющей политической идеологии. Однако данное утверждение представляется надуманным, потому что привычное для человека XX в. мнение об идеологии как преимущественной основы деятельности политических партий, формализованных общественных организаций и движений, с точки зрения истории человечества является крайне краткосрочным, потому что не соответствует не то что стандартам человечества в целом, но и сравнительно недавним историческим периодам.
Модели влияния политических партий на власть, как и сам формат их возникновения, явились следствием конкретных изменений начала XX в., и по истечении определенного этапа, чему мы и являемся свидетелями, неизбежно должны уйти или коренным образом измениться. Поэтому следует указать, что мы живем совершенно не в то время, которое принято называть неким общим кризисом наличия политических идеологий.
На наш взгляд, это представление является ошибочным. Мы наблюдаем неизбежную трансформацию подходов к политическим идеологиям. Это - новые формы политического участия и стандартов, ставшие следствием научно-технологической трансформации и общественных процессов. Речь может идти, скорее, о сложных процессах, зародившихся и протекающих в российском обществе в пер- 70
вые десятилетия XX в.
Более того. Нахождение в статусе объекта, а не субъекта идеологического продуцирования и мэйнстрима для России не является уникальной ситуацией. Христианство, коммунизм и прочие духовные и политические платформы возникли и развивались за пределами русской цивилизации, и лишь на определенном этапе оказались имплементированы со всеми российскими особенностями. В настоящее время у коллективного Запада и в Азии мы видим зарождение и развитие новых идеологических стандартов и подходов (ультрагуманизм со своей перманентной борьбой за права меньшинств) «неоконы»; «цифровое» квазитоталитарное азиатское общество, успешно продвигаемые глобальные платформы; политизация борьбы за окружающую среду с формированием идеологии sustainable fashion и т.п.), что, в свою очередь, провоцирует противодействие традиционных моделей политического взаимодействия.
Особенностью этих идеологических стандартов, коренным образом отличающих их от XX в., является и то, что на фоне беспрецедентной открытости информационных потоков, декларируемой транспарентности глобального общества наблюдаются крайне закрытые технологические приемы и группы в качестве субъектов их выработки и продвижения. В этом смысле мы имеем яркий диссонанс соотношения общественной открытости и политической элитарной закрытости.
Продуцирование политической идеологии ушло от стандартов XX в., при которых оно публично формировалось конкретными идеологами и реализовывалась в определенных формах политической борьбы. Сейчас оно переросло в новые формы политической манипуляции, которая как раз и базируется на новых технологиях, технических решениях. Между этими техническими решениями и политическими технологиями присутствует новые социальные взаимоотношения. В этой связи мы получаем взаимосвязанный алгоритм: научно-технологические изменения - массированные изменения социальных стандартов - трансформация политических процессов и политического взаимодействия.
При этом крайне важно понимать, какой новый социальный и политический стандарт нового человека формирует научно-технологическое развитие. Именно эту проблему как приоритетную для научно-технологического развития России определяет Стратегия научно-технологического развития: «возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук».
Существуют полярные точки зрения на эту проблему. Одна из них говорит о том, что личностные качества человека становятся принципиально новыми, а современное поколение - это поколение, 71
находящееся в большом отрыве от предыдущих социальных стандартов.
Другая точка зрения состоит в том, что рассматривает технологии всего лишь как инструмент. В этой парадигме человечество в своем развитии неоднократно проходило технологические рывки, технологические уклады не раз менялась (минимум трижды), а динамика человеческого развития непрерывна. Но никогда речь не шла о появлении некоего нового человечества, и в этом смысле мы наблюдаем обычный этап эволюции, который диктует новые формы и контуры общественно-социальной реальности, но ни в коем случае не предлагает новую модель человека и человечества.
Видится, что истина - посередине в том смысле, что, конечно же, изменения научно-технологических стандартов и технологий приводят к серьезным социальным изменениям. Эти социальные изменения формируют риски и угрозы для российской государственности. И с другой стороны эти технологии, конечно же, не говорят о том, что человечество коренным образом изменилась, но о существенном изменении речь, несомненно, идет. При этом характер изменений таков, что в новых условиях они объединяют научно-технологический, социальный и политический сегменты.
В связи с процессами глобализации, развивающейся на волне технологического развития, возникают вопросы к содержанию таких понятий как патриотизм, непосредственно любовь к Родине, государственная идентификация. При разрушении информационных технологических границ между государствами, формировании единых стандартов взаимодействия, не привязанных к национальным стандартам, традициям и обычаям, на чем основывается патриотизм, возникает вопрос обоснования национально-государственной самоидентификации.
Очевидно, что только лишь историческая память в этом контексте - недостаточная платформа, так как отсылка к прошлому важна тогда, когда эта историческая память реализовывается в некой преемственности. Остается выяснить, в чем состоит эта преемственность на фоне тех технологических процессов и общественных изменений, о которых мы говорим. Является ли любовь к Родине очевидным фактом государственной идентификации? Важной задачей представляется формулирование стандартов, признаков и критериев этой идентификации. В таком случае будет понятна точка отсчета и развития, необходимые инструменты и критерии.
* * *
Подводя итоги, можно сделать следующие предварительные, требующие дальнейших исследований, выводы.
Первый. Российской Федерации при продвижении идеологии цифровой экономики следует устранять крен в сторону непосред- ственно информационных цифровых технологий, комплексно развивая цифровые промышленные компетенции.
Второй. Научно-технологическое развитие России является формой реагирования на вызовы и угрозы национальной безопасности, а это требует его консолидации с обеспечением национальной безопасности и комплексного нормативно-правового регулирования. Пока эти процессы носят разнонаправленный характер.
Третий. Трансформация научно-технологического уклада (новая промышленная революция) влечет за собой изменение социальных стандартов личности, форм и моделей политического взаимодействия. Эти изменения требуют изучения и выявления характерных черт и признаков, с последующим учетом в формировании государственной политики и общественных стандартов.
Четвертый. Комплексный характер научно-технологических изменений и их влияние на социально-политические процессы в современных условиях объединяют научно-технологический, социальный и политический общественные сегменты, реализуя взаимосвязанный алгоритм: научно-технологические изменения - массированные изменения социальных стандартов - трансформация политических процессов и политического взаимодействия.
Список литературы Национальная безопасность России: к изучению взаимодействия ее политических и технологических факторов на рубеже XX - XXI веков
- Харичкин И.К. Политическая элита и ее роль в обеспечении национальной безопасности России. Москва, 1999
- Касюк А.Я., Харичкин И.К. Внешние угрозы национальной безопасности Российской Федерации и перспективы их нейтрализации // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. 2015. № 1. С. 25-34
- ГригорьеваЕ.А. Обеспечение экономической безопасности государства в современных условиях // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2015. № 3 (93). С. 52-58
- Елфимова О.С. Национальная безопасность в теории и законодательстве России // Lex Russica. 2016. № 10 (119). С. 15-28
- Снеговая И.Л. Теоретические и правовые основы экономической безопасности Российской Федерации как составляющей национальной безопасности государства // Проблемы экономики и юридической практики. 2017.№ 3. С. 173-182
- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации // Стратегические приоритеты. 2017. № 1 (13). С. 142-159.
- Чернецкая Т.С., Чубинская-Надеждина С.В. Цифровая экономика: понятие и практика применения // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. 2019. Т. 10. № 3 (40). С. 209-218.