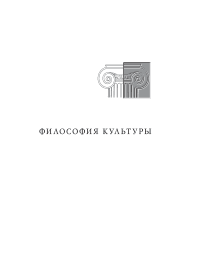Национально-культурная идентичность в условиях глобализации: сложный вектор развития
Автор: Астафьева О.Н.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философия культуры
Статья в выпуске: 5 (73), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается сложность понимания национально-культурной идентичности в современных условиях глобализации; анализируются тенденции, подтверждающие кризисное состояние коллективных идентичностей в тех странах, где государство ослабило своё внимание на процессах поддержки и укрепления коллективных идентичностей. По мнению автора, это выступает одним из факторов деструктуризации устоявшихся моделей и обусловливает необходимость актуализации этой проблемы как одной из центральных для государственной культурной политики.
Коллективная идентичность, национальная, национально-культурная идентичность, национальное государство, глобализация, космополитизация, риски, культурная политика
Короткий адрес: https://sciup.org/144161044
IDR: 144161044 | УДК: 008:351.85
Текст научной статьи Национально-культурная идентичность в условиях глобализации: сложный вектор развития
Вопрос о национальной идентичности, актуализирующийся в связи с новой геополитической обстановкой, усилением давления глобализационных процессов на национальные государства, становится вопросом не столько политиков-практиков, которые подчас при принятии решений руководствуются стратегическими интересами или действуют ситуативно, что усиливает кризис идентичности и приводит к «сбоям» в работе социокультурных институтов, сколько – экспертов и теоретиков, на основе диагностики и анализа прогнозирующих возможные пути преодоления подобных сценариев. Вопрос укрепления коллективной идентичности – один из ключевых в государственной культурной политике.
АСТАФЬЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – доктор философских наук, профессор, директор Научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
ASTAFYEVA OLGA NIKOLAEVNA – Full Doctor of Philosophy, Professor, Management, Director of Research Educational Center “Civil Society and Social Communications”, Institute of Public
32 Administration and Civil Service, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration (RANEPA)
В данной статье обратимся к анализу состояния национально-культурной идентичности в разных странах.
«Размывание идентичности», диссипа-тивность процессов идентификации, формирование разных моделей множественной идентичности – таковы социокультурные тенденции, связанные с изменением взаимоотношений человека с обществом, культурой и традициями. Эти тенденции однозначно относят к «уязвимостям», образующим группу рисков глобализации в обществах, где в условиях уплотнения информационно-коммуникативных сетей и фрактально разрастающихся мегаполисных пространств ослабляются культурные основания межличностных и межгрупповых коммуникаций, возрастают потребности в глубокой взаимосвязи между людьми. Развитые государства с сильными экономиками и устойчивыми политическими трендами сталкиваются с новыми для них «вызовами» культуры и социальными «запросами» на ценностные основания для укрепления коллективной идентичности.
В научном дискурсе в настоящее время присутствуют разные концепции, но превалируют две точки зрения на коллективную идентичность в национальных государствах, наиболее адекватно отражающие полярность представлений о состоянии идентичности и перспективах её укрепления в ближайшее десятилетие.
Согласно одной позиции – признание возможности достижения единства противоречивых идентификационных матриц как постмодернистская дискредитация всяких традиций и какой бы то ни было идентификации, её рациональное идеологическое и/или мифологическое оформление в «воображаемых сообществах» (Imaginary communities). Сторонники другой точки зрения исходят из иных пространственных и культурных характери- стик нации: нация как реально развивающаяся общность, имеющая свою историю, язык, религию, право и пр.; нация как результат развития государства, сопровождающегося построением индустрии (а затем и постиндустриальной экономики), созданием коммуникативных и транспортных сетей, институтов национальной культуры и образования1.
Однако национальная идентичность складывается путём преодоления сопротивления, а в ряде случаев и конфликта традиций и инновационных явлений, в силу чего национальная идентичность понимается как сложный интегративный и интегрирующий феномен, а не как результат простого суммирования составляющих её компонентов. На определённых этапах истории достижение национальной идентичности напоминает «сражение» на пути к согласованию в рамках одной страны различных конкурирующих моделей идентичности. Например, этнической и религиозной идентичности, выступающей во многих странах важной составной частью национальной идентичности.
Ядро национальной идентичности составляет культура – мощный интегрирующий символический (духовный) ресурс, что позволяет нам считать её национально-культурной идентичностью . Более того, в отличие от гражданской идентичности (гражданской «принадлежности» конкретному государству), национально-культурная идентичность является результатом не только группового, но и личностного выбора.
Почему же мы отдаём предпочтение категории «национально-культурная идентичность», хотя, на первый взгляд, указанные различия не столь существенны? Более того, национальная идентичность также строится на ценностном ряде, включающем понятия «национальное самосознание», «свобода», «патриотизм», «уважение к истории», «признание культурных ценностей и традиций» и других. Для нас принципиально значимым является ряд качественно важных уточнений.
Во-первых, уровень национально-культурной идентичности – интегративный, обеспечивающий открытость ценностей динамически устойчивого, саморазви-вающегося ядра культуры и дополняющий его рационально конструируемыми (с использованием политических и идеологических механизмов) порядками и нормами. В целом – этот уровень составляет основания для совместного проживания на одной территории коллективной общности.
Во-вторых, несмотря на принципиальные различия в трактовке нации (реально существующее образование или «виртуальная» общность), в современных государствах национальная культура вбирает в себя широкий символический ряд, связанный с государственной геральдикой, ритуалами и пр., результаты деятельности организаций и учреждений культуры, институтов специализированной сферы (образование, искусство и пр.), культурные практики и традиции, разделяемые людьми, и другое.
Отсюда вытекает и третье уточнение в понимании национально-культурной идентичности: нельзя упускать из виду, что она строится на определённом ценностном ряде, включающем понятия национального самосознания, свободы, патриотизма, уважения к истории и культурным традициям, в силу чего уровень национально-культурной идентичности понимается в широком обобщённом смысле, а его одна из базовых характеристик – сила интеграции – работает на укрепление «ядра» культуры, которому в современном мире свойственна не непрерывность развития, но дискретность с резкой сменой культурных парадигм [7, с. 293].
Национально-культурная идентичность, как один из типов коллективной идентичности, является частью общего социального процесса, где индивид, солидаризируясь с группой, осознаёт себя её частью, при этом продолжая искать собственное место в ней: это «место» в той или иной степени «предопределено» культурой через саму возможность его выбора. В свою очередь, единство личностей, сопряжённых в общее пространство идентичности, достигается не за счёт полного поглощения или смешивания индивидуальностей: идентичности оттеняют и дополняют друг друга, выстраивают иерархию связей уходящих друг в друга идентичностей, которая, в свою очередь, неустойчива и подвержена модификациям и усложнениям, не только в силу субъективных переживаний личностью своей социальности, но и в силу изменений объективных условий.
К таковым в полной мере можно отнести культурно-цивилизационные изменения, связанные с процессом глобализации, затрагивающие все сферы жизнедеятельности человека, обнажающие новые уязвимости и риски. Их характеристиками становятся «делокализация», «неис-числяемость», «некомпенсационность» [8, с. 100], усиливающие трансформацию смыслов культуры, усложняющие общую картину миропорядка и систему его воспроизводства. Поэтому, с одной стороны, глобализация сопровождается небывалым возрастанием регионализации, локализации, глокализации, сочетающими глобальные экономические и технологические притязания властной элиты с особенностями местной культуры и традиций, что зачастую выражается в искусственной ар- хаизации идентификационных моделей. С другой стороны, возникает космополитический момент, игнорирование национального подхода, утверждающего «навязанную космополитизацию» (У. Бек). «Под влиянием космополитизации формирование идентичности всё более происходит вне контекста конкретной территории и культуры, того, что принято называть малой родиной» [8, с. 105]. При этом намечается тенденция соединения космополитизма с национализмом, когда «глобальные менеджеры», «граждане мира» воспринимают ценности разных культур, с которыми они взаимодействуют, как естественное различие, не мешающее их деятельности, но при этом выступают против притока мигрантов в свою страну [8, с. 105].
Так или иначе, но именно следствием глобализации, меняющей социокультурную конфигурацию, разрушающей прежнюю целостность человека и оказывающей влияние на её новую конфигурацию, становятся процессы реструктуризации и демаркации коллективных и индивидуальных идентичностей. Быстро модернизирующийся глобальный мир предлагает новые образцы, модели, стили и образы жизни взамен быстро устаревающих, тем самым обостряя проблемы адаптации и поиска новых форм сосуществования людей в общем социокультурном пространстве [2, с. 255–281].
Все эти факторы усложняют понимание коллективной идентичности, ибо созданные ранее концепции и теоретические положения уже не всегда согласуются с окружающей реальностью. Мир изменяется значительно быстрее, чем идёт процесс осмысления социокультурных трансформаций и их последствий для человека, осуществляется выбор новых стратегий культурной политики с учётом культурного разнообразия [13, с. 302–326].
Как подчёркивалось, сегодня вряд ли вообще можно говорить о коллективной идентичности как о стабильной идентичности, ведь множество людей, динамично перемещаясь в социальных пространствах и включаясь в разные социальные образования, испытывают кризис идентичности. Причины неустойчивости социокультурных картин мира кроются в неспособности людей идентифицировать себя со своей культурой, в неумении включиться в выработанную человечеством систему ценностей, в элементарном отсутствии навыков и знаний относительно их действий в социуме, необходимых для удовлетворения новых потребностей, желаний, стремлений. Это связано также с наступлением новой эпохи, влекущей за собой новый тип информационной культуры, новые модели и паттерны поведения, практики социального поведения, ранее в меньшей степени рассматриваемые как идентификационный маркер [6, с. 344– 354]. Наконец, межпоколенный разрыв, насильственное исключение из исторической памяти мифов, фактов, событий, создание новых образов на описательном и на нормативном уровне уменьшают шансы идентификации индивидов с социокультурной реальностью, тем самым усиливая кризис и индивидуальной, и коллективной идентичностей. Одним из проявлений становится процесс маргинализации.
Преодоление неустойчивости коллективных идентичностей, обостряющейся под давлением глобализации, и обретение новых идентичностей происходит в процессе социальных коммуникаций посредством обращения через культуру к «своим» и к «другим», в процессе поиска общих для конкретного поколения людей ценностей и смыслов. Эта тема становится центральной в работах отечественных гуманитариев в последнее десятилетие [1; 4; 5; 9; 10; 11].
Глобализационный контекст задаёт новые методологические рамки для осмысления будущего национально-культурной идентичности, так как любые изменения в трактовке нации и национального государства не только привносят в понимание идентичности разные оттенки, но и подводят основания для прямо противоположных выводов. Столкновением трёх точек зрения на место национального государства в современном мире (ослабление власти, трансформация или усиление роли национальных государств) определяется характер и направленность национальной идентичности. Думается, что утверждения Д. Хелд и Э. Макгрю о трансформации власти, реартикуляции роли и функций государств в результате пересечения сетей и систем в процессе глобализации и регионализации – сигнал о необходимости вести политику другими средствами, чтобы удержать свой суверенитет и автономию [15, p. 21]. Не только территория, но и культура рассматривается как ресурс национального государства.
Глобализация изменила место национального государства в мире, но, несмотря на это, многие государства активно участвуют в строительстве национальнокультурной идентичности. К примеру, в таких странах, как Испания, Китай, Мексика, Нигерия и многих других, при отсутствии этнического и языкового однообразия удалось сформировать концепцию единой нации. Понятно, что формируя особое символическое пространство, насыщенное ценностно-смысловым содержанием, закрепляя образы, нормы и стили, передавая мифы и историю, государство интегрирует социокультурное пространство, создавая необходимые условия для социального взаимодействия и личностной самореализации.
Изменение природы национального государства модифицирует практики фор- мирования идентичности и соотношение между национальной и региональными идентичностями [17, p. 229–248]. Однако очевидно, что по отношению к культуре партикуляристская линия в этом типе рассуждений, несомненно, превалирует, так как идея сохранения этнокультурного разнообразия включена в региональные идентичности стран Западной Европы.
С другой стороны, если правы те, для кого очевидным является частичный переход властных полномочий на внешний по отношению к национальному государству уровень, и потому они не видят национального выхода из ловушки глобализации, полагаясь на иные решения – такие, как транснациональный вариант [4, с. 272], то, вероятно, на вопрос: «Может ли тогда транснациональная идентичность выступать альтернативой национально-культурной идентичности»? – мы вряд ли сможем дать однозначно положительный ответ.
Дело в том, что глобализация, способствуя сближению и интеграции различных социальных и этнических общностей, провоцирует манифестации «неполных граждан», национализм диаспор, повышает роль новых коллективных идентичностей, формируемых на уровне субкультурных и иных образований. При этом отметим, что значимость определения своей национально-культурной и цивилизационной идентичности большинством сообществ не отрицается.
Современный этап глобализации усложняется разнонаправленными векторами социокультурного развития: в одних странах очевидно усиление идеи нации в условиях кризиса национальной идентичности, в других – намечается ослабление суверенитета и автономии государственных образований в условиях транснационализации. Параллельно намечается усложнение внутренних тенденций – активное участие в создании надгосударственных структур и институтов, институциональные преобразования; рост националистических настроений среди населения. Их открытая демонстрация становится частью повседневной жизни, в то время как совсем недавно это были редкие выступления в периоды «встреч на высшем уровне» руководителей стран, включённых в глобальные проекты и программы. Это вполне объяснимо. «Взращивание» национально-культурной идентичности в условиях глобализации рассматривается как проблема достижения социальной сплочённости и жизнеспособности национального сообщества, как укрепление культурных ресурсов её воспроизводства. Поэтому, более чем когда-либо, государства, входящие в систему мирового сообщества, пытаются удержать свой авторитет и сохранить свои культурные ценности и традиции в условиях транснационализации. Среди таких стран сегодня мы можем назвать США, Китай, Францию, Японию, Иран и другие, которые позиционируют себя как сильные национальные государства, предоставляющие своим гражданам широкий спектр прав и свобод, прежде всего гражданских прав – демократических форм участия и самоопределения культурной принадлежности, в том числе права на сохранение своей этнокультурной идентичности.
Национально-культурная, этнокультурная и транснациональная идентичности – разные типы искусственно созданных в сознании людей «объектов», которыми регулируются отношения и правила взаимодействия между членами группы и отношения с иными людьми. Наряду с другими коллективными идентичностями, прежде всего – культурной идентичностью (отражающей приверженность к определённым ценностям, традициям, жизненным стандартам), они образуют сложный каркас «множественной идентично- сти», преломляемый личностью через своё Я в самых причудливых формах. В отличие от гибкости и пластичности индивидуальных идентичностей, обладающих динамичной иерархичностью, наделённых «си-туативностью», коллективные идентичности являются результатом длительного во времени (измеряемого жизнью не одного поколения) процесса их становления.
Сложность современной ситуации в разных странах мира объясняется одновременным проявлением тенденций к «нагружению» идей культурных различий политическим фоном, исчерпанностью «старых» вариантов мультикультурализма, отсутствием источников пополнения ресурсов множественной идентичности.
К примеру, тема «европейской» идентичности соседствует во Франции с актуализирующейся проблематикой этнокультурной идентичности выходцев из стран Карибского бассейна, ныне уже являющихся полноправными гражданами страны и, казалось бы, обладающих одной из устойчивых коллективных идентичностей. В Великобритании в «постколониальный» и миграционный дискурс включается тема английского национализма, связанная с увеличивающимися расхождениями между идентичностью «англичан» и «британцев», для которых всё очевиднее становится наступление времени выбора пути развития – по модели европейского федерализма или по модели мультикультурализма [16, p. 41–55]; а также актуализируются напряжения, связанные с будущим национальной идентичности и культурной идентичности в условиях появления гибридных образований по типу «британской азиатской идентичности», «британской идентичности чёрных (выходцев из Африки)» и других [14; 19; 20]. По сути, глобализация порождает повышенный интерес к корням, а с учётом того, что «британ- ская идентичность» всегда была сложной политической проблемой, то значение таких факторов, как «цвет кожи», «историческое происхождение», «сельский житель – городской житель» и многих других, в условиях миграционного «давления» повышается. Наложенный глобализацией пресс на специфику британской модели национально-культурной идентичности – её неустойчивость, которая объясняется признанием существования различий между культурной и религиозной идентичностью англичан, шотландцев, жителей Уэльса, Северной Ирландии, приведёт, по мнению разных исследователей этой проблемы, к усилению кризиса коллективной идентичности. Подчёркивая, что национальная мобилизация типично территориальна по своей природе, так как использует границы для сопротивления транснационализму, К. Кумар тем не менее относит идею укрепления территориальной идентичности к контрпродуктивным, показывая, что высокоурбанизированное население Великобритании открыто для взаимодействия, использует преимущественно английский язык, мобильно в освоении новых пространств, в том числе сетевых [21, p. 140–141].
Не менее сложными представляются идентификационные процессы и на Африканском континенте. С одной стороны, здесь установилась стабильная ситуация, при которой права этнокультурного большинства и меньшинства принимаются уже как данность. Однако, с другой стороны, исторически сложившаяся ситуация в условиях модернизации и глобализации обнажает долгие годы не выходящие на поверхность противоречия, что также усиливает кризис идентичности. Возрастают взаимные претензии и усиливаются не только внутренние противоречия между расовой и этнической идентичностью (кого считать «коренным», кого поселенцем, кого иммигрантом), но и между этими вариантами и гражданской, политической идентичностью.
Колониальная власть использует ресурс «интеллектуального воображения» в вопросах признания тех или иных сообществ как “origins”, идентифицируя их как коренные, подлинные сообщества. В политическом дискурсе многих африканских стран различаются понятия «политическая общность» и «культурная общность», и в зависимости от закрепления за сообществом либо политических прав, либо исторических культурных прав оно идентифицируется как принадлежащее к “origins” [18; 21].
Столь же очевидны вызовы идентичности в арабском мире: население региона включено в ситуацию не просто «конкурирующих идентичностей», но и «воюющих идентичностей». Давление религиозной, этнической и даже «сверхархаических» идентичностей на национальную идентичность, аномию, нормативную дезориентацию, атрофированность института государства как сильного политического органа исследователи оценивают как завершающий этап прогрессивного развития в арабском мире. Хотя в научном дискурсе усиливаются призывы к реорганизации гражданской идентичности, а укрепление мифов о далёком прошлом рассматривается как форма проявления самобытности, как последствие усиленного глобализационными процессами кризиса [12, p. 62–63]. Но подобные проблемы не всегда связаны лишь с усилением этнической идентичности, поскольку множество современных государств имеет сложившуюся полиэтническую структуру, что не мешает им поддерживать общую национальную культуру, посредством которой страна выходит на уровень мировых коммуникаций, сохраняя при этом всё многообразие включённых в неё этни- ческих культур (обогащённых ещё и субкультурным разнообразием). Тем самым формируется пространство позитивной совместимости этнокультурной идентичности личности с национально-культурной, гражданской и иными типами коллективной идентичности.
Зададимся вопросом, всё-таки почему во многих современных обществах, искусно владеющих рациональными методиками и прогрессивными технологиями, не удаётся снизить напряжённость идентификации, избежать жёстких противопоставлений «гражданской идентичности»
Список литературы Национально-культурная идентичность в условиях глобализации: сложный вектор развития
- Астафьева О.Н. Коллективная идентичность в условиях глобальных изменений: динамика устойчивого и укоренение становящегося // Вопросы социальной теории: Научный альманах. 2011. Том V. Человек в изменяющемся мире: проблемы идентичности / Институт философии РАН, Российский институт культурологии, Ассоциация «Междисциплинарное общество социальной теории»; под редакцией Ю.М. Резника и М.В. Тлостановой. Москва: Издательство Независимого института гражданского общества, 2011. С. 223-241.
- Астафьева О.Н. Реструктуризация и демаркация коллективных идентичностей в условиях глобализации: будущее национально-культурной идентичности // Вопросы социальной теории: Научный альманах. 2010. Том IV. Человек в поисках идентичности / Институт философии РАН; под ред. Ю.М. Резника и М.В. Тлостановой. Москва: Ассоциация «Междисциплинарное общество социальной теории», 2010. С. 255-281.
- Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма - ответы на глобализацию / пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника. Москва: Прогресс-Традиция, 2001. 303 с.
- Делокаров К.Х. Модернизация российского общества и поиски новой идентичности // Национальная идентичность в Северо-Кавказском обществе: поиски путей укрепления: коллективная монография / [О.Н. Астафьева и др.]; под общ. ред. А.Ю. Шадже и Е.С. Куквы. Майкоп: Издательство Адыгейского государственного университета, 2015. С. 148-161.
- Дзякович Е.В. Трансформация локальных идентичностей в социокультурном пространстве современных российских регионов. Москва: Лабиринт, 2010. 204 с.