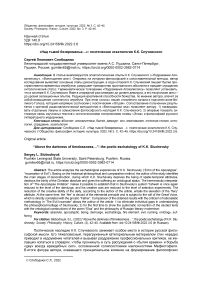"Над тьмой безвременья.": поэтическая эсхатология К.К. Случевского
Автор: Слободнюк Сергей Леонович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются эсхатологические опыты К.К. Случевского («Подражание Апокалипсису», «Воплощение зла»). Опираясь на историко-философский и сопоставительный методы, автор исследования выявляет основные этапы деконструкции, в ходе которой К.К. Случевский лишает бытие пространственно-временных атрибутов, разрушает триединство христианского абсолюта и придает страданию онтологический статус. Герменевтическое толкование «Подражания Апокалипсису» позволяет установить, что в системе К.К. Случевского Яхве в очередной раз низведен до уровня демиурга, а его творческие акты -до уровня селекционных опытов. Редукция креативной способности божества, по мнению автора, влечет за собой возвышение «огненного» атрибута. При этом «огонь» лишен стихийного начала и подчинен воле Великого Голоса, который напрямую соотносим с гностическим «Отцом». Сопоставление полученных результатов с критикой рационалистической методологии в «Воплощении зла» позволяет автору: 1) ликвидировать отдельные лакуны в осмыслении философского наследия К.К. Случевского; 2) впервые показать системную связь изученных текстов с онтологическими построениями поэмы «Элоа» и философией русского литературного модернизма.
Абсолют, апокалиптика, бытие, демиург, зло, именование, огненная стихия, онтология, страдание, эсхатология
Короткий адрес: https://sciup.org/149139905
IDR: 149139905 | УДК: 140.8
Текст научной статьи "Над тьмой безвременья.": поэтическая эсхатология К.К. Случевского
Pushkin Leningrad State University, Saint Petersburg, Pushkin, Russia, ,
воззрений русского литературного модернизма, как при жизни, так и по настоящее время продолжает прозябать на окраинах научного дискурса. В трудах, посвященных эсхатологической проблематике, имя К.К. Случевского отсутствует (Гранин, 2019; Иванов, 2019; Лян, 2020; Leontyev, Kurashov, 2019). В немногочисленных работах о творческом наследии поэта вопросы философского характера обычно освещаются фрагментарно: проблема фиксации «неуловимого», гностический элемент в осмыслении онтологической проблематики, бытийная взаимообусловленность добра и зла (Коровин, 2020; Фалеева, 2018).
В статье мы постарались расширить приведенный список, обратившись к двум концептуально значимым произведениям К.К. Случевского – «Подражание Апокалипсису» и «Воплощение зла». Первое представляет собой опыт создания оригинальной эсхатологии, второе – попытку критически осмыслить ключевые интерпретации зла и добра.
Вряд ли есть необходимость доказывать, что Откровение Иоанна Богослова было одним из наиболее востребованных текстов в эпоху fin de siècle. Однако в отличие от других авторов К.К. Случевский не стремится к созданию парафрасиса. Внимательному читателю сразу бросается в глаза хронологический сбой: «И наступила ночь тяжелая, глухая… / Виденье было мне! <…> Куда – и сам не зная, / Входил я в некий призрачный чертог. <…> Над тьмой безвременья, на привесях бессчетных / Блистало множество больших паникадил»1. Иоанн дает строгую последовательность событий, берущую начало в тот момент, когда апостол «был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега», после чего, обратившись, чтобы узреть говорившего, «увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому» (Откр. 1:10, 12–13). После этого следует рассказ о послании семи церквям, вознесении апостола etc. Лишь в главе 10 Ангел «клялся Живущим во веки веков… что времени уже не будет» (Откр. 10:5–6). У К.К. Случевского «тьма безвременья» явно утвердила себя до того, как героя посетило виденье.
Отмеченное, и далеко не единственное, отклонение от канона вряд ли можно объяснить простым желанием соригинальничать. Автор последовательно и целенаправленно разрушает традиционную структуру. Погружение мира в «тьму безвременья» сопровождается гибелью начал : «А глубоко внизу, обломки на обломках, / Над миром рухнувшим торчали острия, / И между них, блестя огнем чешуй в потемках, / Лежала мертвою библейская змея! / А подле голубь белый без движенья / Упал пластом, безжалостно измят, / И на груди его как бы изображенья / Семи великих ран виднелися подряд…»2 – нет больше времени, нет (по сути) ни былого пространства, ни былого бытия, и нет победителей, ибо зло повержено наравне с добром.
Правда, в Откровении нет поверженного голубя. И змеи тоже нет. Иоанн пишет, что ангелами божиими «низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною» (Откр. 12:9) и скован «на тысячу лет» (Откр. 20:2). Однако в художественном пространстве К.К. Случев-ского свои законы. Так что превращение змея в змею вряд ли имеет принципиальное значение, чего никак нельзя сказать о гибели изначально бессмертного «Духа». Парадоксальность ситуации усугубляется тем, что вместе с началами находит свой конец ангел смерти (также, кстати, отсутствующий в Откровении): «И он был тоже мертв! лицо мне видно было; / Не мог я не признать в нем чудной красоты, / Хоть силою огня местами опалило / И покоробило поблекшие черты!»3.
Дальнейшее развитие событий вызывает по меньшей мере удивление. Так, Иоанн завершает Откровение описанием Иерусалима, «который нисходил с неба от Бога» (Откр. 21:10), и словами Спасителя: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами» (Откр. 22:14). На пороге грядущего счастья, когда «и Дух и невеста говорят: прииди» (Откр. 22:17), Агнец Божий делит человечество на достойных Иерусалима чистых и недостойных нечистых: «Псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужи-тели, и всякий любящий и делающий неправду» (Откр. 22:15). В построениях К.К. Случевского Великий Голос, принадлежащий некоему Духу, обозначает иные перспективы. Явно не желая тратить время на определение заслуг/грехов потомков Адама и Евы, он провозглашает: «Бог кончил с опытом, довольно испытаний… / Не поросль – семя все испепелить пора…»4.
Однако здесь возникает вопрос: «Кого, собственно говоря, будет уничтожать Бог, если, по К.К. Случевскому, “весь мир погиб”?»5. Ответ – имена. Дело в том, что глобальная катастрофа по неведомым причинам оставила нетронутой огненную субстанцию, неразрывно связанную с историей о неопалимой купине, светильниками Патмоса и словами Иисуса: «Я есмь… звезда светлая и утренняя» (Откр. 22:16) – «Над тьмой безвременья, на привесях бессчетных / Блистало множество больших паникадил. / Как бы пророчество какое выполняя, / Огни бестрепетно пылали, зажжены / От света Патмоса, от пламени Синая, / Рукой таинственной в чертог прине-сены!..»1. Библейская природа огненной субстанции, казалось бы, входит в противоречие с не совсем христианской позицией К.К. Случевского. Тем не менее при ближайшем рассмотрении противоречие исчезает. Автор редуцирует атрибуты ветхо- и новозаветного божества: символ славы Создателя переходит на уровень демиургического modus vivendi, а сам акт творения приобретает эмпирическую окраску: «Бог кончил с опытом, довольно испытаний»2. Тем самым верховное существо Заветов низводится К.К. Случевским до уровня демиурга, а «огонь», лишенный стихийной составляющей, оказывается могущественным орудием, при помощи которого был убит Ангел смерти, но пока еще поддерживается жизнь имен.
Продолжая деконструировать библейский дискурс («Я есмь Альфа и Омега» (Откр. 1:8)), автор объявляет основой бытия страдание: «Одно, одно страданье / Гореть над бездною осталось, не прошло. / В нем сущность мира! альфа и омега! / Страданья лишь одну пощаду обрели / И пламенно блестят, как светочи ночлега, / Над разрушением замученной земли…»3. При этом страдание выступает в единой связке с именами, время существования которых зависит от воли Великого Голоса. Как только последний выносит вердикт, определяющий дальнейшие действия божества: «И Он других создаст, а прежних уничтожит / Так, чтоб и в имени проказе не пройти / В то, что появится, в то, что Он приумножит / И в жизни поведет на новые пути…», – «И стали погасать, дымясь, паникадила! / Одни вослед другим погасли имена! / Тьма непроглядная отвсюду обступила, / Непоборимая, безмолвная, одна…»4.
Явная странность в отношениях Великого Голоса и библейского божества снимается при обращении к другим текстам К.К. Случевского, где автор откровенно отсылает читателя к учениям древних гностиков: «И Бог, и я – мы два враждебных брата, / Предвечные Эоны высшей силы, / Нам неизвестной, детища ее!..»5. Слова Сатаны, звучащие в онтологическом очерке из поэмы «Элоа», не оставляют места для разночтений: Яхве К.К. Случевского, действительно, демиург, ограниченный в возможностях и подчиненный воле первоначала.
Какова цель творческих актов этого божества? Устранение сокрытого в разуме несовершенства человеческой природы. Да, с одной стороны, согласно К.К. Случевскому, человек занимает чрезвычайно важное место в мироздании: «Когда же после множества исканий… / Мысль в человеке, наконец, пробилась, / В ней связка завязалась двух миров… / И был начертан дальний путь развитья: / Чрез мысль – в бессмертье, и тогда-то нам / И мне <Сатане. – С. С.>, и Богу – человек стал нужен: / Он за кого – тот победит из нас»6. С другой стороны, разумное начало в современном человеке обладает рядом изъянов. В «Воплощении зла» поэт, не особенно стесняясь в выражениях, ставит диагноз рационалистическому мировоззрению: «Мышленье блуд-ствует»7. Основной порок разума видится К.К. Случевскому в желании конкретизировать зло, поскольку, замыкая одно из начал в ряд понятий, человечество уходит от постижения его сущности: «Зачем тут видимость, зачем тут воплощенья, / Явленья демонов, где медленно, где вдруг – / Когда в природе всей смысл каждого движенья – / Явленье зла, страданье, боль, испуг…»8. Отдавая должное гению Апостола, К.К. Случевский тем не менее не отказывает себе в удовольствии пустить парфянскую стрелу: «На Патмосе, в свой день, великое виденье / Один, из всех людей, воочию видал… / Пал ниц… но – призванный писать – живописал!»9. Внешняя компли-ментарность здесь сводится на нет оппозицией «писания» и «живописания», ибо «забавно прибегать к чертам изображенья; / Зачем тут – когти, хвост, Молох, Сатаниил?»10.
В «Подражании Апокалипсису» К.К. Случевский подвергает критике другое свойство человеческого разума, а именно – стремление к истине: «Пытливый ум людей, как прежде, в жизни ставит / Вопросы страшные о бытии времен…»11. Если соотнести эти слова с приведенными данными, можно уверенно сказать, что под «пытливостью» скрывается «сомнение». Причем сомнение как принцип познания. Крайне любопытно, что методологическая порочность сомнения у
К.К. Случевского проявляется только тогда, когда оно становится достоянием человека, соблазняя его реальной возможностью сравняться с божеством: «Пытливый ум людей, как прежде, в жизни ставит / Вопросы страшные о бытии времен… / Да кто же, наконец, из двух вас власть? Кто правит? / Они ли, смертные, или бессмертный Он?!»1.
Проблема властвования, как, впрочем, и остальные проблемы, связанные с человеком, в эсхатологии К.К. Случевского разрешается просто и страшно – полное истребление. Повинуясь воле Великого Голоса, демиург-Яхве «других создаст, а прежних уничтожит», поскольку «Иначе на людей не отыскать управы, / Иначе не смирить их поврежденный ум…»2.
Идея радикального исправления человеческой природы, выдвинутая К.К. Случевским в «Подражании Апокалипсису», стала закономерным итогом «игры» в древний гностицизм. Однако если в «Элоа» и «Воплощении зла» поэт ставил в центр рассуждения проблемы, связанные с диалектикой добра (творения, душевного познания) и зла (разрушения, рационального познания), то в «Подражании…» на первый план вышел вопрос об отношениях божества с человеком. И решение этого вопроса оказалось не в пользу последнего.
Список литературы "Над тьмой безвременья.": поэтическая эсхатология К.К. Случевского
- Гранин Р.С. Эсхатология и утопия в русской религиозной философии // Человек: образ и сущность. 2019. № 4 (39). С. 9-22.
- Иванов М.С. Христианская эсхатология: вечность во времени // Вопросы богословия. 2019. Т. 2, № 2. С. 11-20. DOI: 10.31802/2658-7491-2019-2-2-10-20 EDN: RZUZIY
- Коровин В.Л. О христианских мотивах в "Элоа" К.К. Случевского на фоне "Элоа" А. де Виньи // Предсимволизм -лики и отражения / под ред. Е.А. Тахо-Годи. М., 2020. С. 257-271.
- Лян К. Эсхатология и спасение - религиозные мотивы в русской философии и современной русскоязычной литературе // Религии в России и мире: диалог, веротерпимость и конструирование идентичности: сб. науч. докл. / под ред. проф. Е.И. Аринина. Владимир, 2020. С. 149-159.
- Фалеева А.С. Философские мотивы лирических циклов Константина Случевского // Символ науки: международный научный журнал. 2018. № 10. С. 55-61.
- Leontyev G.D., Kurashov V.I. Dystopia of transhumanism in the context of general eschatology // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 2019. Vol. 9, no. 1. P. 5176-5179. DOI: 10.35940/iji-tee.A9225.119119