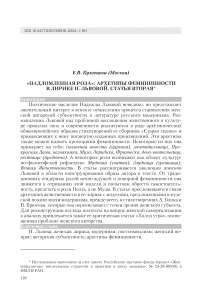«Надломленная роза»: архетипы фемининности в лирике Н. Львовой. Статья вторая
Автор: Кузнецова Е.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
Поэтическое наследие Надежды Львовой невелико, но представляет значительный интерес в аспекте осмысления процесса становления женской авторской субъектности в литературе русского модернизма. Размышления Львовой над проблемой воплощения женственного в культуре прошлых эпох и современности реализуются в ряде архетипических общеевропейских образов стихотворений ее сборника «Старая сказка» и примыкающих к нему посмертно изданных произведений. Эти архетипы также можно назвать проекциями фемининности. Некоторые из них она примеряет на себя: сказочная невеста (царевна), мечтательница, Прекрасная Дама, незнакомка, Муза, Эвридика, Франческа, дева-воительница, вестница (предтеча). А некоторые роли возникают как объект культурно-философской рефлексии: Мадонна (святая), блудница (грешница), Вечная Женственность. В статье рассматривается эволюция поисков Львовой в области конструирования образа автора в тексте. От традиционных гендерных ролей вечно ждущей и покорной фемининности она движется к отрицанию этой модели и попыткам обрести самостоятельность, предстать в роли Поэта, а не Музы. В статье прослеживаются связи архетипов женственности в ее лирике с моделями, предложенными в мужской поэзии эпохи модернизма, прежде всего, в стихотворениях А. Блока и В. Брюсова, которые она переписывает с точки зрения женского субъекта. Для реконструкции взгляда поэтессы на вопрос женской самореализации к анализу привлекается также ее критическая статья «Холод утра», посвященная проблеме женского авторства.
Н. львова, женская лирика, модернизм, постсимволизм, женский вопрос, авторская субъектность, архетипы фемининности
Короткий адрес: https://sciup.org/149145243
IDR: 149145243 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-151
Текст научной статьи «Надломленная роза»: архетипы фемининности в лирике Н. Львовой. Статья вторая
N. L’vova; women’s lyrics; modernism; post-symbolism; women’s issue; author’s subjectivity; archetypes of femininity.
В первой части нашей статьи мы описали те архетипы фемининности и лирические сюжеты, которые оказались наиболее актуальны для Надежды Львовой: сказочная царевна, мечтательница, незнакомка, Муза, Эври-дика, Франческа, дева-воительница, вестница (предтеча) . Мы коснулись самых знаковых перекличек его лирики с произведениями В. Брюсова и А. Блока. Но несколько концептуально насыщенных стихотворений Львовой наталкивают исследователя на рассмотрение их в широком литературно-философском и даже художественном контексте эпохи модерна, связанном с полемикой о женственном.
Мы видим, как быстро, буквально в течение года, идеалистическо-романтическая примерка ролей традиционный фемининности сменяется в ее лирике отражением душевного кризиса и надлома. Конфликт идентичности (реального самоощущения и исконных ролей, предлагаемых женщине) отражен в важном рефлексивном стихотворении «…И Данте просветленные напевы…»:
…И Данте просветленные напевы, И стон стыда – томительный, девичий, Всех грез, всех дум торжественные севы Возносятся в непобедимом кличе.
К тебе, Любовь! Сон дорассветный Евы, Мадонны взор над хаосом обличий, И нежный лик во мглу ушедшей девы, Невесты неневестной – Беатриче .
Любовь! Любовь! Над бредом жизни черным Ты высишься кумиром необорным, Ты всем поешь священный гимн восторга. Но свист бича? Но дикий грохот торга? Но искаженные, разнузданные лица?
О, кто же ты – святая – иль блудница ! [Львова 1914a, 78].
Приведенный текст в аспекте подмеченных Львовой противоречий (святая или блудница) спроецирован на важнейшую дискуссию о фемининном, развернувшуюся в начале ХХ в. как в европейской, так и в русской культуре. Поэтесса говорит о ликах женственности и перечисляет самые значимые в наследии былых эпох ее архетипы ( Ева, Мадонна, Беатриче ), соотносимые с высокой функцией фемининного. К образам Данте и Беатриче для построения комплементарной модели творчества обращаются многие модернисты начала ХХ в.: В. Брюсов, Н. Бердяев, Д. Мережковский, А. Белый, Вяч. Иванов и др. Обращение Львовой к фигуре Данте было во многом обусловлено влиянием Брюсова, который не просто восхищался великим итальянским поэтом, но и был настоящим знатоком его творчества на высоком научном уровне. Дантовские реминисценции присутствуют во многих стихотворениях Брюсова: «Данте», «Данте в Венеции», «Сошедшие во ад», «Поэту», «На высях», «Я и кот» и др. В разгар романа со Львовой Брюсов готовил к изданию книгу заметок «Miscella-nea» (1913), в которой упоминается Данте, а также написал статью «Данте современности» (об Э. Верхарне), позже, в 1920-е гг., Брюсов изложил свое понимание «Божественной комедии» в статье «Данте – путешественник по загробью».
Потом к такому же перечислению моделей женственности обратится Гиппиус в стихотворении «Вечноженственное» («Сольвейг, Тереза, Мария / Невеста-мать-сестра») [Гиппиус 1999, 226]. Но у фемининного в культуре модерна была и темная сторона, связанная с телесностью, властью плоти. Истоки этих представлений уходят еще в Средневековье, когда женщина либо возносилась на недостижимый пьедестал (Богоматерь), либо клеймилась как сосуд греха и пособница Сатаны. Финал стихотворения Львовой демонстрирует эту раздвоенность, непреодоленную и в начале ХХ в. – «кумир необорный» или «блудница». Она констатирует наличие как двух противоречивых сторон любви (платоническая и чувственная, высокий идеал и темная страсть), так и двойственное отношение к самой женщине: или святая, или грешница.
Эту двойственность и объектность женщины эмоционально описала Зинаида Гиппиус в статье с говорящим названием «Зверебог» (1908), посвященной полемике с философским трудом О. Вейнингера «Пол и характер» (1902) [Гиппиус 1908, 20–24]. Суть возмущения Гиппиус сводится к тому, что женщина всегда предстает или как зверь (животное, природное начало) или как Бог (божественное начало). Но где же тогда сама женщина? Она осмысляется только через внешние по отношению к ней понятия. Статья Гиппиус как нельзя лучше демонстрирует тот факт, что категория фемининного в модерне внутренне полярна: женщина предстает либо прекрасной (бестелесной, пустой, формируемой), либо падшей (телесной, активной, сексуальной, угрожающей). Львова хорошо чувствует и передает ощущение этого противоречия, неоставляющего места для реальной, а не выдуманной женщины.
Можно сказать, что она отчасти солидаризируется с Гиппиус и определенным образом полемизирует со статьей Н. Бердяева «Метафизика пола и любви» (1907) и целым комплексом идей, сформированным вокруг символистской концепции Вечной Женственности. Бердяев прослеживал возникновение новой возвышенной любви в процессе перенесения божественной экзальтации и поклонения Богоматери на реальную женщину: «Средневековый культ Мадонны, образа вечной женственности, был началом невиданной еще в мире любви, это религиозный корень, из которого вырастала любовь к Прекрасной Даме, к конкретному образу божественной силы. Любовь Данте к Беатриче – чудесный факт мировой жизни, прообраз новой любви» [Бердяев 1907, 17]. Но в результате такого перенесения женщина лишилась своей собственной значимости, своего собственного бытия, став эмблемой какой-то иной любви. Отталкиваясь от рассуждений Бердяева, Гиппиус критикует его за то, что он взял женщину, «как воплоти-тельницу чистой женщины», то есть как категорию, и «эту женщину-Женственность» нарисовал как объект, неспособный существовать вне субъекта: «Вот женское дело, говорит он, – дело Беатриче: вот мужское дело – дело Данте. – Пример разительный! Что же такое Беатриче, как не объект в высшей степени, существующий лишь постольку, поскольку существует субъект – Данте? Была ли Беатриче сама для себя? Да и не все ли это нам равно? Не все ли это равно и для самого Данте? Она жила в нем , и он делал, при ее помощи, свое человеческое дело, женского же дела тут никакого не было, уж потому, что “женское” никогда ничего не “делает”» [Гиппиус 1908, 22].
По мнению К. Эконен: «В статье “Зверебог” Гиппиус показывает, что культурная мифология образов Данте и Беатриче лишила женщину возможности субъектной позиции и в любви, и в творчестве (курсив мой. –
Е.К.)» [Эконен 2021, 169]. И Львова, ищущая собственный голос, не могла остаться равнодушной к этому утверждению своей старшей современницы, учитывая тот факт, что «Божественная комедия» и образ Данте как идеального творца – это исключительно важные подтексты «Старой сказки». Львова не выстраивает таких сложных философских конструкций, как Гиппиус, она далека от ее радикальных взглядов на фемининное, но идеалистические построения Бердяева, обосновывающего в своей концепции «новой любви» зависимое и дополняющее положение Беатриче по отношению к Данте, также вызывают у нее внутреннее сопротивление, выраженное в вопросительных предложениях финального четверостишия стихотворения.
А в другой, пожалуй, самой известной своей лирической пьесе «Со всех сторон протянуты к нам руки!» Львова еще больше ставит под сомнение метафизику возвышенной любви, которую проповедовал не только Н. Бердяев, но и Вл. Соловьев, А. Блок, А. Белый, Эллис, С. Соловьев и др.:
Со всех сторон протянуты к нам руки !
Со всех сторон слышна жестокая мольба, И на кресте извечном страстной муки Распять нас могут все, как римляне – раба! Все правы, все! взглянуть в глаза – и грезы, Желанием своим коснуться душ – и тел … Что можем мы, надломленные розы ? Быть распинаемой – позорный наш удел .
Но, против воли, мы, клонясь, как стебель гибкий, На каждый знойный зов бросаем отзыв свой.
И всем мы отдаем лобзанья и улыбки, Не в силах устоять пред жаждою – чужой… О, если бы порвать кошмар наш упоенный, Отдаться лишь любви, как нежащей волне! И бросить наше «нет»! желаний тьме бездонной, И бросить наше «да»! лазурной вышине! [Львова 1914a, 45].
Данное стихотворение следует рассматривать в контексте процитированного нами выше произведения «…И Данте просветленные напевы…», так как по заявленной проблематике они составляют, на наш взгляд, диптих. Лирическая героиня Львовой вступает в спор с навязываемыми ей архетипами идеальной женственности, обращаясь к своему собственному травматичному опыту. Она и хотела бы отдаться «нежащей волне» любви, но ощущает себя почему-то не Беатриче, не Эвридикой, не сказочной царевной-невестой, ждущей жениха, а бесправной рабой, объектом мужского желания, слишком доступным для чужих глаз и беззащитным для чужой страсти. Последнее двустишие фиксирует неразрешимый конфликт, в котором находилась сама поэтесса: чтобы обрести творческую самостоятельность (выйти в «лазурную вышину»), необходимо отринуть страстную любовь («желаний тьму бездонную»). Но что тогда останется, если любовь составляет и содержание творчества, и смысл жизни?
Первая и шестая строки стихотворения о жадно протянутых к женщине мужских руках, бесцеремонно нарушающих ее личное пространство, стремящихся схватить и присвоить ее тело, представляют собой сложною аллюзию сразу на несколько художественных произведений начала ХХ в. на гендерную тему. Во-первых, в этом образе отзывается кульминационная сцена рассказа издательницы «Женского вестника» М. Покровской «Прислуга» (1901). По его сюжету проститутка Саша, сбежавшая из дома терпимости, устроилась работать служанкой. Но в сочельник городовой приходит за ней, чтобы вернуть ее обратно. По дороге измученная и отчаявшаяся девушка убегает от него и кончает жизнь самоубийством, чтобы не возвращаться снова к торговле собственным телом. В предсмертном ужасе ей мерещатся «сотни призраков, которые с искаженными и зверскими лицами протягивали к ней жадные руки , стараясь оторвать хотя бы кусочек ее тела , причиняя ей нестерпимую боль (курсив мой. – Е.К.)» [Покровская 1901, 66–67]. Сравним это описание с первой строкой Львовой – «Со всех сторон протянуты к нам руки !» Таким образом, лирическая героиня Львовой скрыто отождествляет себя с проституткой – самой бесправной и обреченной среди женщин, чья жизнь и судьба отдана в залог мужской похоти. Она такая же жертва. Психологическая слабость любящей женщины, ее невозможность противостоять мужскому желанию сравниваются с доступностью публичной женщины. Во-вторых, нельзя не отметить перекличку с размышлениями о положении женщины в социуме Nathalie, героини повести Брюсова «Последние страницы из дневника женщины» (1910): « Все мужчины тянут руки к женщине и кричат ей: хочу тебя, но ты должна быть только моей и ничьей больше, иначе ты преступница . И каждый уверен, что у него все права на каждую женщину, а у той нет никаких прав на самое себя! (курсив мой. – Е.К.)» [Брюсов 1988, 190]. И Покровская, и Брюсов ставят проблему бессубъектности женщины: если она не существует сама по себе и сама для себя, то она может принадлежать всем, каждый мужчина считает себя в праве обладать ей.
Возникновение подобных параллелей в лирике Львовой вполне закономерно и обусловлено актуальным литературным полем. В начале ХХ в. возникла целая волна произведений о женщинах-жертвах проституции и о женском вопросе в целом. Об этом писали уже не только писатели-мужчины первого ряда (Л. Толстой, Н. Гаршин, А. Куприн, Л. Андреев и др.), но и женщины-писательницы, представительницы феминисткой литературной традиции (см., например: [Симонова 2016]).
Стихотворение «Со всех сторон протянуты к нам руки!», как верно отметила Т.С. Карпачева, вызвало волну «сочувственных откликов» [Карпачева 2021, 267–268]. Молодая поэтесса Н.Ю. Поплавская написала свою вариацию на этот лирический сюжет под названием «На мотив Н. Львовой» (1916), опубликованную в сборнике «Стихи зеленой дамы» (1917), в которой «горняя вышина» (духовная жизнь, искусство, самореализация) как альтернатива страстной любви совершенно устраняется и женщина окончательно пригвождается к «кресту любви» как к единственному жизненному сценарию:
Со всех сторон нас жгут и жадное желанье, И страстная мольба, и нежность робких глаз, И нам не бросить «нет» извечному страданью И мы несем свой крест , под тяжестью склонясь… О, крест любви! Его любовь мужская
Не может знать. Он наш – и только наш… <…>
Нам не порвать кольца пылающих желаний
Нам не найти пути потерянного вновь.
И распинает нас, истерзанных страданьем
На огненных крестах, Владычица-Любовь [Поплавская 1917, 46–47].
По мнению Т.С. Карпачевой, Поплавская «не видит как таковой двойственности женской души: стремления к горнему и одновременно потакания страсти» [Карпачева 2021, 267]. Если Львова как бы говорит: «Ах, если бы это было возможно, отбросить все земное и устремиться к небесному», то Поплавская отвечает – «Увы, это невозможно».
Но на наш взгляд, стихотворение «Со всех сторон протянуты к нам руки!» является более глубоким произведением, нежели сожаление о женской доступности и узости жизненного выбора. Его второй, культурно-исторический и мировоззренческий план раскрывается, если рассмотреть генезис созданного Львовой и повторенного Поплавской образа женщины, распинаемой на кресте любви. Он восходит к картине бельгийского художника Фелисьена Ропса «Искушение святого Антония» (1878), изображающей видение обнаженной женщины, помещенной на распятии вместо Иисуса Христа. Своим голым телом женщина и стоящий за ней Сатана пытаются соблазнить святого. Этот эпизод из жития св. Антония воспроизводит архетип женщины как «сосуда греха» и пособницы дьявола:
Еще одна сцена коварного обольщения, «Искушение святого Антония» (1878), изображает святого – изможденного отшельника в рубище, со скорбным лицом, мучимого видением пышнотелой женщины, которая заняла место Христа на кресте. Привычная надпись на дощечке, прибитой на верхней перекладине креста, – I.N.R.I. [Иисус Назорей, царь Иудейский] – заменена на другую: EROS. Из-за женщины выглядывает сатана, он одет в нечто похожее одновременно и на кардинальскую мантию, и на шутовской наряд. Сзади, снизу на женщину уставилась свинья – возможно, это аллюзия на тех свиней, в которых Цирцея превращала спутников Одиссея. <…> Все эти образы явно иллюстрируют христианские идеи, демонизирующие плоть и чувственность, и мизогинные представления о женщине как об их воплощении [Факснельд 2022, 423].
Некоторые исследователи указывали на двусмысленность картины Ропса: полнокровная, румяная, счастливая женщина представляет разительный контраст с тщедушным высохшим монахом и позволяет предположить, что на самом деле Ропс на стороне женщин, провозглашающих земную любовь и радость жизни, а не на стороне католической асексуальной святости и аскезы [Факснельд 2022, 430–431]. «Кроме того, в некоторых работах Ропса явно чувствуется симпатия к Сатане и женской чувственности» [Факснельд 2022, 432]. Но превалировала все же точка зрения, что Ропс женский пол не жаловал, так как сатанические женщины фигурируют во множестве работ художника. Он усиленно воскрешал средневековые представления о том, что служение дьяволу – это прерогатива женщин, связанных с ним сексуальными отношениями. Мужчин-сатанистов он никогда не изображал.
Картина Ропса, одного из самых известных художников, связанных с расцветом французского символизма (его иллюстрации украшали книг стихов С. Малларме и П. Верлена), несомненно, была знакома Львовой, как и его концепция инфернальной женственности, в которой представительницы слабого пола «прославлялись» как наемницы Тьмы и служанки Дьявола. Большим поклонником Ропса и проводником его идей и образов был французский писатель Ж.-К. Гюисманс, который воспринял его картины как порицание, а не восхваление женщины, и в книге очерков «Некоторые» «восторженно отзывался о способности Ропса запечатлевать образы вечной демонической женственности». Сам Гюисманс также упражнялся в подсчете женских прегрешений и составил «обширную генеалогию опасных и порочных женщин, начиная с Евы» [Факснельд 2022, 427]. Несмотря на то, что своих современниц Гюисманс не считал в буквальном смысле слова одержимыми дьяволом, он, тем не менее, полагал, что женская половина человечества – «огромный сосуд беззакония и преступления, оссуарий несчастий и бесчестий, настоящая проводница всех пороков, впускающая в наши души их посланцев» [Факснельд 2022, 428].
Таким образом, женщина на кресте символизирует в лирике русских поэтесс не просто извечное страдание женщин в любовных отношениях, но и обширный комплекс клеветнических и стигматизирующих обвинений в их адрес со стороны мужчин, закрепленных в культурных архетипах. Русские поэтессы одним упоминанием распятой женщины вступают в спор с мизогинными представлениями своего времени и прежде всего с концепций Ропса и Гюисманса. Смысловые акценты в женской интерпретации известного сюжета о совращении святого оказываются смещены. Во-первых, сам сюжет расширяется и распространяется на любовные отношения между полами в целом. А во-вторых, страдающей, соблазненной и достойной сочувствия предстает теперь женщина, а не мужчина. Мужчина – палач, несправедливо пригвоздивший женщину к позорному кресту.
Визуальный образ живописного полотна Ропса, возможно, через посредничество Львовой, отразился в метафорике и заглавии романа Анны Мар «Женщина на кресте» (1916), рисующего женскую любовь как мучительную зависимость, уничижительную и безвыходную страсть. В таком случае Поплавская, делая из соблазнительницы соблазняемую, а из орудия страдания (искушения) – страдалицу, в своем стихотворении апеллирует не только ко Львовой, но и к проблематике Мар. Мы видим, как женщины-писательницы «перемигиваются» друг с другом и переворачивают посыл мужского искусства, совершенно иначе представляя роль женщины в межгендерных взаимоотношениях.
Свои раздумья о женской личной и авторской субъектности Львова формулирует в критической статье «Холод утра (несколько слов о женском творчестве)», опубликованной посмертно в 1914 г. Она сделала заглавием своей критической статьи, посвященной творчеству своих современниц, урезанную строку из стихотворения Д. Мережковского, к которому мы обращались в первой части нашей статьи («Холод утра – это мы»). Предметом анализа поэтессы становится место плодов женского художественного труда на быстро меняющемся литературном ландшафте эпохи: «Двадцатый век, вероятно, будет назван в истории “женским веком”, веком пробуждения творческого самосознания женщины. Никогда не говорила она так громко. Никогда не прислушивались к ее голосу так внимательно. Трудно предсказать, во что выльется это стихийное – захватившее все области жизни – движение, наложит ли оно свой отпечаток на нашу слишком “мужскую” культуру» [Львова 1914b, 249].
Патриархатный социум порождает, по мнению Львовой, мужскую литературу, развитие которой находится в очевидном кризисе:
Женщина вошла в поэзию, и вошла в тот миг, когда поэзия уткнулась в тупик. И нам кажется, что этот тупик является неизбежным следствием мужского характера нашей поэзии. Мужчина – властитель поэзии, полноправный ее хозяин. Его душа, его взгляды, его стремления, – его мироощущение, – вот содержание поэзии. Если взять за основу мужской души ее разумность, рациональность, – то придется сказать, что наша поэзия, как и вся наша культура, задыхается от избытка рациональности. <…> И единственным спасением кажется нам внесение в поэзию женского начала – причем сущность этого «женского» в противовес «мужскому» – мы видим в стихийности, в непосредственности восприятий и переживаний, – восприятий жизни чувством, а не умом, вернее, сначала чувством, а потом умом [Львова 1914b, 250].
Далее в статье следует тематический обзор лирики М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой, Е.Ю. Кузьминой-Караваевой и самого Брюсова, скрывшегося в сборнике «Стихи Нелли» под образом вымышленной поэтессы
Нелли. Приведенная цитата и дальнейший разбор конкретных художественных миров своих современниц демонстрируют противоречивость взглядов Львовой. С одной стороны, она солидарна с Рене Гилем и согласна с тем, что искусство не может делится на мужское и женское, а с другой стороны, призывает искать в творчестве женщин черты «женскости», чтобы обособить результат их креативных усилий от маскулинного культурного поля, акцентировать внимание на фемининном опыте. При этом для прояснения особенности женского подхода к искусству Львова опирается на стереотипные обывательские суждения о мужской рациональности и женской эмоциональности, хотя ей и нельзя ставить это в вину, так как это противопоставление муссировали и в литературной критике, и в философских сочинениях эпохи. Например, писательница и критик Е. Колтонов-ская в сборнике критических очерков «Женские силуэты», выпущенном в 1912 г. и скорее всего известном Львовой, пытается на этом различии (эмоциональность – рациональность) выстроить целую систему оценки женской литературы. Одних авторов она на основании эмоциональности их стиля относит к типичным женщинам-писательницам, а других – к нетипичным [Колтоновкая 2020].
Провозглашая за женской поэзией новую креативную силу, она, тем не менее, сводит всю лирику рассматриваемых ею авторов к теме любви: «Стихи всех этих поэтов – красочная поэма любви. Это – тоска любви. Или тоска о любви. Это – страх перед нею. Это – какое-то метание любви» [Львова 1914b, 251]. Львова постоянно колеблется между стремлением возвеличить женщину, поднять ее до уровня мужчины, и необходимостью констатировать, что она «только женщина». Дважды в статье повторяется строчка Марины Цветаевой «Что же! Ведь – женщины мы!» из стихотворения «Rouge et Bleue (Красное и голубое)» о грустной судьбе женщины, отказывающейся от самореализации и замкнутой в круге запретов, привычек и гендерных стереотипов. Львова с горечью отмечает, что «у мужчин – целый мир. У женщин – “только любовь”»: «Понятая в большинстве случаев как боль, как страдание, как “властительный Рок” – она заполняет всю женскую душу. Как будто мимо проносится гремящая жизнь 20-го века, как будто не было всех тысячелетий завоеваний и борьбы, как будто из всех океанов жизни для них доступен один… И это очень по-женски» [Львова 1914b, 253]. Начав свои рассуждения с тезиса о том, что женское творчество выведет мужскую литературу из тупика, Львова приходит к выводу, что пока в большинстве случаев женским стихам «не удается достигнуть той границы, где личное становится общечеловеческим…» [Львова 1914b, 253]. Но статья заканчивается надеждой на обновление поэзии благодаря активной роли женщин: «Во всяком случае, в многоголосном хоре женские голоса – иногда увереннее, самостоятельнее других, и, как знать, может быть, с большим правом могут крикнуть – всем, ждущим рассвета:
“Холод утра – это мы!”» [Львова 1914b, 256].
Мы видим, что эти упования противоречат как последним стихам поэтессы, полным отчаяния и разочарования, так и ее жизненному решению. Пред- ставляется бесперспективным рассуждать, насколько субъективным было ощущение Львовой ее творческой несостоятельности, а насколько оно соответствовало реальности. Признав для себя самой как неоспоримый факт свое поражение в любви и в поэзии, она прекратила свое земное существование.
Безвременная смерть поэтессы поставила точку в ее раздумьях о судьбе женского творчества в целом и о собственном пути. История любви, пережитая ею с Валерием Брюсовым и зашифрованная в стихотворениях «Старой сказки», вылилась в книгу, стала источником вдохновения (что и было, возможно, одной из задач Брюсова-учителя – помочь Львовой претворить личный опыт в поэтический), но проблема состояла в том, что автор и главная героиня были одним и тем же лицом, и их разъединение вовремя не произошло. Почувствовав исчерпанность романа, реальная женщина не смогла «начать новую главу», отделив автора-творца от несчастной и обреченной героини «Старой сказки»: вечной невесты, сновидицы, Франчески, Эвридики… Напротив, она словно решила перенести финальную сцену смертельного сна укутанной белом покрывалом невесты, описанную ею в стихотворении «Лежу бессильно и безвольно…», из поэзии в реальность, воплотиться в мертвую невесту:
Лежу бессильно и безвольно… В дыму кадильном надо мной Напев трепещет богомольный, Напев прощанья с жизнью дольной, С неверной радостью земной.
Невеста, – в белом покрывале ,
И fleur d’orag’евом венке < …> [Львова 1914a, 84].
«Похороны Львовой состоялись 27 ноября 1913 г. Ее хоронили в белом гробу и в белом платье (курсив мой. – Е.К.)» [Карпачева 2021, 213]. Но еще более удивительно то, что это заключительное стихотворение «Старой сказки» Львовой является эхом раннего брюсовского стихотворения 1894 г. «Мечты о померкшем», написанного от лица женщины и также рассказывавшего печальную историю о смерти молодой новобрачной:
Мечты о померкшем, мечты о былом,
К чему вы теперь? Неужели
С венком флёрдоранжа, с венчальным венком, Сплели стебельки иммортели ?
Мечты о померкшем, мечты о былом, К чему вы душой овладели, К чему вы трепещете в сердце моем На брачной веселой постели? [Брюсов 1987, 35].
Т. Карпачева справедливо отмечает, что образ невесты неоднократно соотносится в поэзии Львовой со смертью, а погребальный белый саван сравнивается с фатой (например, в «зимнем» стихотворении «Белый, белый, белый, белый…») [Карпачева 2021, 160–162]. Но ни этот сюжет, ни сравнение брачных и погребальных покровов не изобретены Львовой. Смерть на пороге новой жизни, смерть на брачном ложе – этот романтический сюжет, популярный в западноевропейской литературе и фольклоре и запечатленный в знаменитой балладе И.-В. Гёте «Коринфская невеста» (1867), несомненно, пленял ее воображение. И в балладе Гёте, и в немецкой легенде о мертвой невесте из замка Вильдек повторяются устойчивые художественные детали: венец на голове невесты, белая пелена или покрывало, то скрывающие, то раскрывающие ее лицо и фигуру.
В.Г. Шершеневич считал, что Львова погибла от отсутствия поддержки. Позже он скажет в своих воспоминаниях: «Если бы при жизни Львовой была написана хоть сотая часть похвал, которые прозвучали после смерти, может, оборвавшаяся любовь была бы заменена работой. Иначе не было уверенности в себе» [Шершеневич 1990, 473]. Не будем отрицать одиночество, безденежье и непростые бытовые обстоятельства молодой девушки, приехавшей из провинции в Москву, однако критические отзывы на ее сборник были сдержанно благожелательные, вряд ли начинающая поэтесса могла ожидать большего. Например, один из самый строгих, а порой и едких критиков 1910-х гг. В. Ходасевич отозвался на дебют Львовой весьма обнадеживающе: «Книга г-жи Львовой – женская книга, в лучшем значении этого слова. Лиризм ее непроизволен: в нем находит себе разрешение ряд напряженных и сложных чувств. Некоторая сентиментальность лишь украшает сборник. Наконец, нельзя не отметить известной высоты, которой в нем достигает искусство стихосложения» [Ходасевич 2010, 115].
Процитированные стихотворения о смерти демонстрируют, насколько тонка была для поэтессы завеса между литературой и жизнью, как сознательно она стирала грань между лирическими сюжетами и жизненными событиями, даже такими необратимыми, как физическая гибель, как точно она воплотила трагический сценарий, словно прописанный для нее Гёте и Брюсовым. Позволим себе высказать предположение, что самоубийство Львовой имело причиной не только любовную катастрофу и разочарование в попытке обрести подлинные (единственные, предначертанные судьбой) отношения, но и другие, более сложные мотивы: стремление жить по законам романтического искусства и символистского жизнетворчества и крах конструирования творческой субъектности, поиска своей авторской идентичности. «Посмертные» стихотворения, опубликованные в приложении ко второму выпуску «Старой сказки», варьируют в основном те же темы и мотивы, что и произведения основной части книги: тоска, одиночество, разочарование, мучительная любовь, редкие мгновения упоения природной гармонией… И хотя появляются новые ноты игры в любовь и женского мщения, дальнейший литературный путь поэтессы теряется в тумане. Возможно, она нашла бы себя в критике или в работе над переводами… Но осенью 1913 г. Львова в двух саморазоблачительных стихотворениях констатировала невозможность стать полноценным автором, что, безусловно, подтолкнуло к трагическому финалу:
Мне хочется плакать под плач оркестра.
Печален и строг мой профиль.
Я нынче чья-то траурная невеста … Возьмите, я не буду пить кофе.
Мы празднуем мою близкую смерть .
Факелом вспыхнула на шляпе эгретка.
Вы улыбнетесь… О, случайный! Поверьте,
Я – только поэтка . <…>
Радужные брызги хрусталя –
Осколки моего недавнего бреда.
Скрипка застыла на жалобном la…
Нет и не будет рассвета! [Львова 1914a, 115]
В контексте данного стихотворения самохарактеристика «поэтка» противопоставлена определению «поэт» и обозначает женщину пишущую, но лишенную собственного голоса, воспроизводящую чужие нарративы и не воспринимаемую всерьез. Образ невесты, полной радостных предчувствий и ожиданий, свойственный ее первым стихотворениям, снова преобразуется в образ «траурной невесты», невесты смерти. Белая цветовая символика заменяется черной.
А в другом саморазоблачительном стихотворении, написанном также в ту последнюю осень, Львова восклицает: «Будем безжалостны! Ведь мы – только женщины . / По правде сказать – больше делать нам нечего» [Львова 1914a, 119]. Актуализация гендерной проблематики в данном тексте очевидна. Принадлежность к женскому гендеру поэтесса воспринимает как одну из причин постигшей ее неудачи, как клеймо пола, не позволяющее выйти за пределы зависимого существования и в творчестве, и в любви. А ее утверждение, что «нет и не будет рассвета», звучит как самополемика и опровержение веры в новое утро из стихотворения «Мы – предтечи дальней жизни…». Львова словно отрекается от образа поэтессы-предтечи и смиряется с самоидентификацией просто женщина.
Тем не менее ее творческое наследие демонстрирует чуткую реакцию на гендерные противоречия эпохи и отражает общественную полемику по вопросам женского авторства, которые явились производными от постепенного процесса обретения «слабым полом» социальных и политических прав. Она по-своему и с точки зрения женщины «переписывает» многие хрестоматийные, архетипичные сюжеты мировой культуры (истории вечной любви и союза поэта и его вдохновительницы, сюжет о соблазнении святого грешницей), а также лирические темы ее современников, прежде всего А. Блока и В. Брюсова (любовная коллизия в ресторане, смертельный поединок возлюбленных, мертвая невеста).
С одной стороны, Львова на уровне макросюжета своего сборника «Старая сказка» воспроизводит «вечную» историю девы, ждущей своего спасителя и жениха, но с другой стороны, она демонстрирует органическую несовместимость этой модели традиционного женского поведения с современным миром и отношениями полов. В итоге вместо свадьбы мы наблюдаем смерть. Начав с транслирования архетипов пассивной и вечно ждущей фемининности, поэтесса приходит к ее дискредитации путем демонстрации опустошающего итога этой «старой сказки» – отсутствия счастливого финала.
В поэзии Львовой Эвридика и Беатриче делают первые шаги к существованию уже не для Орфея или Данте, они ищут свой голос, чтобы рассказать о сложном и, как правило, некомфортном самоощущении реальной женщины в роли «Незнакомки» в ресторанном зале или в качестве объекта возвышенной любви. Можно сказать, что, стремясь обрести бессмертие автора, субъекта творчества, Львова эволюционирует к отрицанию бессмертия женщины как объекта эстетизированного преклонения (а «мужская» поэзия Серебряного века неизменно постулировала эту идеальную, законсервированную и отполированную искусством фемининность). Утверждая, что все женщины «королевы, ждущие трона», Львова одновременно констатирует невозможность далее оставаться на троне / пьедестале. В полной мере намеченная тенденция освобождения и обретения нового качества не реализовалась, но фиксация в стихах «Старой сказки» момента перехода от традиционной женственности к новой фемининности представляет несомненный интерес.
Список литературы «Надломленная роза»: архетипы фемининности в лирике Н. Львовой. Статья вторая
- Бердяев Н. Метафизика пола и любви // Перевал. 1907. № 5. С. 7–17; № 6. С. 24–36.
- Брюсов В. Повести и рассказы / сост., вступ. ст. и прим. С.С. Гречишкина, А.В. Лаврова. М.: Правда, 1988. 464 с.
- Брюсов В. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1987. 575 с.
- Гиппиус З. Зверебог // Образование. 1908. № 8. С. 20–24.
- Гиппиус З. Стихотворения / вступ. ст., сост., подг. текста и примеч. А.В. Лаврова. СПб.: Академический проект, 1999. 560 c.
- Карпачева Т.С. «Мой недопетый гимн весне»: жизнь и творчество Надежды Львовой. М.: Водолей, 2021. 508 с.
- Колтоновская Е. Женские силуэты. Статьи и воспоминания (1910–1930). М.: Common place, 2020. 624 с.
- (а) Львова Н.Г. Старая сказка. М.: Альциона, 1914. 123 с.
- (b) Львова Н.Г. Холод утра (несколько слов о женском творчестве) // Жатва. 1914. № 5. С. 249–256.
- Покровская М.И. Прислуга // Покровская М.И. О падших. СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1901. С. 57–67.
- Поплавская Н.Ю. Стихи зеленой дамы: 1914–1916. М.: Изд-во тип. т-ва Рябушинских, 1917. 118 с.
- Симонова О.А. Образ блудницы в феминистской беллетристике начала ХХ в. // Новый филологический вестник. 2016. № 2(37). С. 86–97.
- Факснельд П. Инфернальный феминизм. М.: Новое литературное обозрение, 2022. 832 с.
- Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 2. М.: Русский путь, 2010. 716 с.
- Шершеневич В.Г. Великолепный очевидец. Поэтические воспоминания 1910–1925 // Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М.: Московский рабочий, 1990. С. 417–646.
- Эконен К. Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в русском символизме. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 400 с.