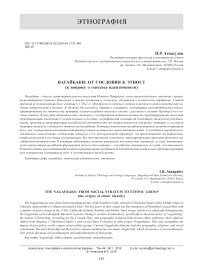Нагайбаки: от сословия к этносу (к вопросу о генезисе идентичности)
Автор: Атнагулов И.Р.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 1 т.44, 2016 года.
Бесплатный доступ
Нагайбаки - одна из групп тюркоязычного населения Южного Приуралья, своим происхождением связанная с крещеными татарами Среднего Поволжья, а также чувашами и, возможно, удмуртами и восточными марийцами. Главной причиной ее возникновения было cоздание в 1730-х гг. Оренбургского казачьего войска и различного рода инородческих казачьих подразделений в регионе. В отличие от калмыков, башкир и мещеряков, составивших самостоятельные войска, сформированные по этническому принципу, казаки-нагайбаки оказались вместе с русскими в составе Оренбургского казачьего войска. В силу ряда обстоятельств, связанных с государственной деятельностью по структурированию населения (христианизация, вхождение в состав казачьего сословия, географическая изоляция от ближайших этнических родственников), произошла трансформация нагайбакской идентичности от конфессиональной (крещеные татары) и сословной (татары-казаки) до собственно этнической (нагайбаки). История становления нагайбаков является наглядным примером того, как государственно-политический фактор влияет на появление новых идентичностей. У нагайбаков выработалось собственное самосознание, особенность которого в его многоуровневой структуре, где присутствуют географическая, конфессиональная и сословная составляющие. Все они отражены в комплексе этномаркирующих признаков феномена нагайбакской идентичности. В новейших публикациях, включая материалы последних двух переписей, из всей этнонимиче-ской номенклатуры нагайбаков фиксируется только одно название - «нагайбаки», являющееся, по сути, экзоэтнонимом. В данной статье рассматриваются вопросы формирования нагайбакской идентичности и актуального функционирования всех исторически сложившихся эндо- и экзоэтнонимов данной группы.
Нагайбаки, этническая идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/145145740
IDR: 145145740 | УДК: 39 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.1.137-146
Текст научной статьи Нагайбаки: от сословия к этносу (к вопросу о генезисе идентичности)
Предпосылки появления новой идентичности (политико-административный фактор)
Южное Приуралье в 1730-х гг. – первой трети XIX в., будучи приграничной территорией России, являлось также этнической границей между казахами и башкирами. Особенность этнополитической ситуации в регионе заключалась в том, что отношения между последними были напряженными, это также беспокоило немногочисленное русское население [Рычков, 1762, ч. I, с. 157]. Для наведения государственного порядка и освоения данной территории правительство осуществляло программу по русской колонизации края, для чего была организована Оренбургская экспедиция. Реализовывались две основные задачи: отделение башкир и казахов друг от друга путем строительства линии укреплений и включение казахов Младшего и Среднего Жузов в российское подданство с целью дальнейшего прямого выхода на рынки Средней Азии [Там же, с. 146–148]. Выполнение этих задач сопровождалось строительством крепостей не только по внешней линии, но и во внутренних уездах – вокруг башкирских земель с целью усмирения бунтующих. На Оренбургскую и другие линии переселяли различные группы казаков – русских и крещеных инородцев. Они составляли служилое население вновь основанных крепостей. В формировавшееся Оренбургское казачье войско входили казаки других – яицкого, самарского, уфимского, сибирского, а также прочее население, поверстанное в казачество [Стариков, 1891, с. 75]. Одной из таких групп были т.н. уфимские новокрещеные. В нее входили и старокрещеные казанские татары, которых в 1736 г. определили в казачье сословие и поселили в Нагайбакской крепости, с. Бакалы и ряде окрестных деревень [Рычков, 1762, ч. II, с. 206–208]. В результате данной акции часть этого населения сословно отделилась от остальных соплеменников – крещеных татар, не включенных в казачье сословие. Дальнейшее пребывание в Оренбургском казачьем войске привело к тому, что они оказались, во-первых, в сословной изоляции от ближайших родственников, во-вторых, даже согласно новому административному делению войска, не вошли в состав соединений, состоявших исключительно из тюркского населения – башкир, мещеряков и тептярей. Такая ситуация оказала влияние на развитие самоидентификации нагайбаков.
Генезис, структура и динамика нагайбакских идентичностей
Формирование нагайбаков происходило в процессе сложных этнических контактов в Среднем Поволжье и Восточном Закамье начиная со второй половины XVI в. и до первых десятилетий XIX в. Их этниче- ским субстратом можно считать тюркоязычную среду, состоявшую в основном из старокрещеных казанских татар – т.н. кряшен. Среди них могли быть ногайцы, служившие в Казани [Исхаков, 1995, с. 6–7]. Одна из основных групп, составивших этнический субстрат нагайбаков, – закамские кряшены – формировалась в Уфимской пров. Казанской губ. с середины XVII в., когда была проведена Закамская линия (1652–1656 гг.) [Там же, с. 12]. Переселение сюда предков нагайбаков шло в общем потоке движения кряшенского населения из Заказанья, Лаишевского и Мамадышского уездов Казанской губ. Среди них были арские служилые татары, которые, вероятно, и имели этнические связи с ногайцами [Там же, с. 7]. Поселившись в Восточном Закамье, они вступали в контакты с местным новокрещеным населением (уфимскими новокрещеными), включавшим как татар, так и другие группы (чувашей, восточных марийцев, закамских удмуртов). Тесные контакты последних с татарами подтверждаются этнографическими материалами (ПМА*, Башкортостан, Бакалинский р-н, 2010 г.). Данные группы можно определить как суперстратный слой в этногенезе нагайбаков. Христианизация этого населения – первый исторический фактор, повлиявший на формирование комплекса этноидентифицирующих признаков будущих нагайбаков. Таким образом, первый период в истории формирования данной группы хронологически соответствует 1552–1736 гг.
Второй период этнической истории нагайбаков был связан с вхождением уфимских новокрещеных в состав казаков. Это событие изменило этническую картину в бассейне р. Ик. Во-первых, в Нагайбакской крепости, с. Бакалы и других близлежащих населенных пунктах произошла консолидация групп кряшенского, чувашского и другого населения на базе казачьего сословия с усвоением общего самоназвания экзогенного происхождения – «казаки» или «старокрещеные татары-казаки» [Исхаков, 1995, с. 9]. Во-вторых, в силу принадлежности к казачьему сословию началось естественное их отдаление от родственного неказачьего населения края, а из опасения мусульманского влияния из нагайбакских населенных пунктов административными мерами были удалены все некрещеные татары [Витевский, 1897, с. 441–442]. В-третьих, в этот подготовленный социум влилось несколько десятков выходцев из Средней Азии, принявших в Оренбурге христианство [Рычков, 1762, ч. I, с. 191–192]. Данный компонент в составе нагайбаков некоторое время был заметен, потому и отмечался наблюдателями [Журнал…, 1770, с. 68–69; Георги, 1776; Записки…, 1821, с. 146–147; Записки…, 1824, с. 260]. Он не повлиял на культуру нагайбаков, но сохранил свое присутствие в номенклатуре нагайбакских фамилий [Бектеева, 1902, с. 166]. До 1843 г. этот полиэтничный конгломерат, возможно, и не гомогенизировался полностью, однако обрел общее сословное самосознание, а также единый язык и культуру, унаследованные от местного кряшенского субстрата. Весьма вероятно, что параллельно с названиями «казаки», «старокрещеные татары-казаки» (табл. 1) использовалось обозначение «нагайбаки» [Даль, 2000, с. 23 (статья «Армяк»)]. Во всяком случае, в 1843 г. в Южное Зауралье они прибыли как «казаки-нагайбаки» или просто «на-гайбаки» [Небольсин, 1852, с. 21]. Главное событие второго периода – переход в казачье сословие – определило на будущее еще один этноидентифицирующий признак. Нагайбакские казаки в это время по социальному статусу были сословной группой в составе кряшен Восточного Закамья.
Образование Новолинейного р-на в 1830-х гг. явилось завершающим актом казачьей колонизации Южного Приуралья – освоения его зауральской части. Это изменило ландшафт и этнический состав населения края. Русские, нагайбаки и калмыки – три основных этноса, составившие казачье население региона [Правила…, 1843, с. 34–39] (табл. 2), а из неказачьего самый заметный – казахи. Здесь нагайбаки создали три относительно изолированные географические группы – троицкую, верхнеуральскую и оренбургско-орскую. Из них к началу XX в. нагайбакскую идентичность сохранили две первые. Верхнеуральская оказалась наиболее крупной и к началу XXI в. имела численность примерно на прежнем уровне.
Верхнеуральские нагайбаки в XIX в. основали шесть почти моноэтничных поселков. Это позволило им сохранить этническое своеобразие. В то же
Таблица 1. Этносословные группы в населенных пунктах нагайбаков (1795 г.) *
|
Населенный пункт |
Этносословные группы |
Численность |
|
|
Мужчины |
Женщины |
||
|
Нагайбакская крепость |
Казаки |
139 |
122 |
|
Отставные солдаты, помещичьи крестьяне, ясачные новокрещеные татары и тептяри |
146 |
150 |
|
|
Бакалы |
Старокрещеные татары-казаки |
148 |
160 |
|
Тептяри, ясачные крестьяне, приписанные к заводу, и церковнослужители |
64 |
58 |
|
|
Старое Костеево |
Старокрещеные татары-казаки |
66 |
120 |
|
Шершелы |
Крещеные казаки |
137 |
179 |
|
Ясачные крестьяне, приписанные к заводу |
72 |
49 |
|
|
Балыклы |
Татары-казаки |
60 |
63 |
|
Ясачные тептяри, ясачные крестьяне, приписанные к заводу |
36 |
24 |
|
|
Старые Маты |
Татары-казаки |
81 |
53 |
|
Новокрещеные тептяри |
19 |
11 |
|
|
Старое Килеево |
Старокрещеные татары-казаки |
110 |
136 |
|
Старое Умерово |
То же |
88 |
95 |
|
Новое Умерово |
Старокрещеные татары, ранее приписанные к Петровскому заводу |
63 |
46 |
|
Ясачные татары |
64 |
58 |
|
|
Старое Зияшево |
Старокрещеные татары-казаки |
179 |
233 |
|
Новое Юзеево |
То же |
70 |
71 |
|
Старокрещеные ясачные татары, старокрещеные татары-тептяри, ясачные тептяри |
107 |
126 |
|
|
Старые Усы |
Старокрещеные татары-казаки |
13 |
44 |
|
Ахманово |
То же |
74 |
65 |
|
Старокрещеные татары-бобыли, ясачные крестьяне |
20 |
7 |
|
|
Старое Иликово |
Старокрещеные татары-казаки |
141 |
125 |
|
Всего ** |
1 897 |
1 995 |
|
*Составлено по: [Исхаков, 1995, с. 9].
**Подсчитано нами.
Таблица 2. Сословно-этнический состав нагайбакских станиц в 1843 г. *
|
Станица |
Калмыки |
Русские |
Нагай-баки |
Всего |
|
Кассель |
29 |
– |
200 |
229 |
|
Остроленка |
19 |
– |
200 |
219 |
|
Фершампенуаз |
– |
– |
350 |
350 |
|
Париж |
32 |
– |
300 |
332 |
|
Требия |
– |
– |
200 |
200 |
|
Арси |
95 |
205 |
– |
300 |
|
Куликовская |
41 |
167 |
– |
208 |
*Составлено по: [Правила…, 1843, с. 34–37].
Таблица 3. Три наиболее многочисленных этноса Нагайбакского р-на по данным переписи населения 2002 г. *
|
Этнос ** |
Населенный пункт |
Численность |
|
Русские |
Фершампенуаз, с. |
1 951 |
|
(10 239 чел.) |
Арсинский, пос. |
1 066 |
|
Северный, пос. |
612 |
|
|
Нагайбакский, пос. |
589 |
|
|
Гумбейский, пос. |
547 |
|
|
Прочие |
5 474 |
|
|
Нагайбаки |
Париж, с. |
1 676 |
|
(7 394 чел.) |
Остроленка, с. |
1 621 |
|
Фершампенуаз, с. |
1 552 |
|
|
Кассель, с. |
918 |
|
|
Астафьевский, пос. |
252 |
|
|
Кужебаевский, пос. |
181 |
|
|
Требиятский, пос. |
138 |
|
|
Чернореченский, пос. |
84 |
|
|
Подгорный, пос. |
72 |
|
|
Прочие |
900 |
|
|
Казахи |
Арасламбаевский, пос. |
327 |
|
(3 445 чел.) |
Кужебаевский, пос. |
181 |
|
Придорожный, пос. |
147 |
|
|
Куропаткинский, пос. |
142 |
|
|
Подгорный, пос. |
137 |
|
|
Петровский, пос. |
136 |
|
|
Совхозный, пос. |
128 |
|
|
Прочие |
2 247 |
*Рассчитано по: [Всероссийская перепись населения 2002 г., табл. 2].
**Указана численность в районе, включая пгт Южный.
время они вступили в контакты с русскими из соседних станиц [Бектеева, 1902, с. 166], что усилило тягу к православному христианству. Этому способствовало и административное деление казачьих земель, в соответствии с которым все нагайбакские поселки подчинялись разным русским станицам. Другими соседями стали казахи, с ними нагайбаки также вступали в контакты [Там же]. И наконец, в селах Париж и Фер-шампенуаз были поселены калмыки бывшего Ставропольского казачьего войска [Правила…, 1843, с. 34]. Незначительная их часть была ассимилирована на-гайбаками (ПМА, с. Париж), а остальные в 1920-х гг. переселились в Нижнее Поволжье.
К началу 1930-х гг. в Нагайбакском р-не сложилась сеть населенных пунктов, которые по этническому признаку можно разделить на три группы – нагайбакские, русские и казахские (табл. 3). Именно к этому времени фактор географической изоляции от татар и нахождения среди русских оказал решающее воздействие на формирование новой идентичности. Развитие данной части фундамента идентичности происходило одновременно с дальнейшими изменениями этнической культуры.
Становление нагайбаков в XX – начале XXI в. шло в условиях промышленного и сельскохозяйственного освоения региона. В связи с этим необходимо отметить следующие факторы формирования нагайбак-ской идентичности. Во-первых, утратив сословный статус, нагайбаки почти сразу обрели новый – были признаны государством как этнос, что и зафиксировано в 1926 г. [Список…, 1928, с. 38–42]. Во-вторых, в результате административной реформы нагайбак-ские поселения перешли из подчинения Оренбургской в состав Челябинской губ., затем Уральской обл., а в 1927 г. в составе Троицкого окр. этой области был создан Нагайбакский р-н. В-третьих, в связи с освоением целины изменился этнический состав населения: рядом с нагайбакскими появились поселки, основанные переселенцами из европейской части России. Особенностью этнической ситуации в районе стало то, что нагайбаки оказались в некотором роде связующим культурным звеном между тюрками (казахами) и славянами (русскими), т.е. создалась ситуация этнического симбиоза.
В Нагайбакском р-не в 2002 г. проживало 7 394 на-гайбака (табл. 3), что составляет 78 и 74 % от их численности в Челябинской обл. и России соответственно*. Примерно такая же картина, при небольшом снижении численности нагайбаков как в Нагайбакском р-не, так и по России в целом, сохранилась и в 2010 г.** Нагайбаки бывшего Троицкого уезда вошли в состав в основном Чебаркульского р-на. Жители Нагайбак-ского р-на собственную этническую идентичность транслируют более выраженно, чем Чебаркульского, используя несколько отличную этнонимическую номенклатуру. Например, чаще употребляется этноним «нагайбаки», а обозначение «русские» в качестве эндоэтнонима недопустимо, что не характерно для че-баркульской группы, где ассимиляционные процессы проявились сильнее (ПМА, c. Фершампенуаз, д. Попово, 2014 г.).
Нагайбаки бывшего Верхнеуральского уезда, оказавшись с 1927 г. в одном административном районе, названном в соответствии с официально утвержденным этнонимом, получили возможность сохранения этнической идентичности. Несмотря на запрет использования этнонима «нагайбаки» в документах с конца 1930-х гг., групповое единство оставалось и, вероятно, со временем усиливалось. Запретив употребление этнонима, власть почему-то не изменила название района, что также повлияло на сохранение этнического самосознания. К началу 1990-х гг. оказалось, что группа «крещеных татар» Челябинской обл. не приемлет татарскую идентичность, в связи с чем впервые после 1926 г. вопрос был поднят вновь в общественно-политической и научной сферах. По нашему мнению, продолжительное пребывание нагайбаков в составе национально-административного образования явилось дополнительным существенным фактором, повлиявшим на этническую самоидентификацию. Следует признать наличие еще одного этноидентифицирующего признака нагай-баков – ощущения этнической родины, очерченной вполне конкретными административными границами.
Трансформации материальной культуры и современное этническое самосознание
В процессе исследования нагайбакской идентичности привлекались этнографические материалы, от- ражающие хозяйство, жилища, одежду и систему питания. Изучение материальной культуры нагайбаков проводилось в основном по ее состоянию на вторую половину XIX – начало XX в. [Атнагулов, 2007а]. Этот хронологический промежуток является наиболее удобным для исследования архаичных пластов, поскольку именно тогда российская этнографическая литература переживала подъем, сопровождавшийся множеством публикаций на хорошей научной основе, развивалось музейное дело. Результаты, полученные в то время, позволяют реконструировать материальную культуру более ранних периодов. Вместе с тем увлеченность некоторых современных коллег этнографией тех лет без учета изменений, произошедших за по следнее столетие, приводит к ошибочным выводам. Появляются заключения, в которых элементы народной культуры систематизируются по состоянию на вторую половину XIX в., но при этом предлагаются выводы по этнической характеристике изучаемой группы применительно к настоящему времени.
Источниковая база, использованная при изучении материальной культуры второй половины XIX – начала XX в., основывается на литературных материалах, архивных данных и музейных коллекциях. Инновационные изменения, произошедшие за последние примерно 100 лет, наблюдались непосредственно или зафиксированы со слов информаторов.
Хозяйство нагайбаков к началу XX в. сложилось в виде земледельческо-животноводческого комплекса с преобладанием пашенного земледелия и развитым пастбищно-стойловым скотоводством [Там же, с. 164]. В конце XX – начале XXI в. отмечается заметная дифференциация населения по профессиональной принадлежности и занятости (табл. 4). Это связано с повышением общего уровня образования и возможностей профессиональной подготовки (табл. 5), увеличением численности состоящих на государственной службе, работающих в области образования, культуры, сферы обслуживания, торговли и т.п.
Таблица 4. Социально-профессиональная структура нагайбаков в трех селах Челябинской обл., % *
|
Социально-профессиональная группа |
Остроленка |
Фершампенуаз |
Париж |
|||
|
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
|
|
Учащиеся |
12 |
18 |
17 |
16,5 |
17 |
23 |
|
Рабочие |
60 |
17,5 |
42,5 |
15,5 |
45 |
11 |
|
Служащие |
12 |
32 |
20 |
40 |
13 |
22 |
|
Пенсионеры |
8 |
11,5 |
11 |
16 |
22 |
35 |
|
Работающие в частном секторе, домохозяйки |
8 |
21 |
9,5 |
12 |
3 |
9 |
*Составлено по ПМА, с. Остроленка, 2005 г., с. Фершампенуаз, 2007 г., с. Париж, 2006 г.
Таблица 5. Уровень образования нагайбаков в трех селах Челябинской обл., % *
|
Уровень образования |
Остроленка |
Фершампенуаз |
Париж |
|||
|
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
Мужчины |
Женщины |
|
|
Неграмотные |
0 |
1 |
4 |
4 |
0 |
1 |
|
Малограмотные |
2,5 |
2 |
6 |
8 |
4 |
2 |
|
Начальное |
4,5 |
5,5 |
6,5 |
6,5 |
13 |
21 |
|
Неоконченное среднее |
18 |
19 |
13 |
16 |
16 |
24 |
|
Среднее общее |
33 |
22 |
22 |
17 |
16 |
14 |
|
Среднее специальное |
26,5 |
32 |
22 |
27,5 |
42 |
25 |
|
Неоконченное высшее |
5,5 |
4,5 |
9,5 |
5,5 |
4 |
6 |
|
Высшее |
10 |
14 |
17 |
15,5 |
5 |
7 |
*См. примеч. к табл. 4.
Материальная культура нагайбаков по мере своего развития подвергалась неизбежным изменениям. Они касались всех аспектов, но, по-видимому, в разной степени. Из рассмотренных разновидностей материальной культуры наиболее консервативной является система питания. За прошедшее столетие ее основа, определяющаяся соотношением пищи животного и растительного происхождения, соразмерностью использования в растительном сегменте зернового и садово-огородного сырья, номенклатурой обязательных празднично-ритуальных блюд и т.п., принципиальных изменений не претерпела. Инновации коснулись ассортимента употребляемых продуктов, который несколько расширился, преимущественно за счет товаров, приобретенных в магазинах, и некоторых способов термической обработки повседневной и праздничной пищи. Ритуальная кухня в основном продолжает сохранять исторически сложившийся регламент (ПМА, с. Остроленка, 2000 г.) [Там же, с. 150–152].
На втором месте по степени сохранения традиций в материальной культуре находится строительство. Еще в конце 1990-х – начале 2000-х гг. постройки на-гайбакских сел в подавляющем большинстве по своим конструктивным особенностям и строительным материалам соответствовали сооружениям конца XIX – начала XX в. [Атнагулов, 2004]. Изменения касались в основном кровли, некоторых элементов внешнего оформления, внутреннего убранства и др. (ПМА, села Остроленка, Фершампенуаз, Париж, Кассель, Требия, 1998–2001 гг.) [Атнагулов, 2007а, с. 117–119]. В течение последнего десятилетия появились дома из кирпича и шлакоблока с применением современных отделочных материалов. Многие срубные дома обкладываются кирпичом, обшиваются различными видами сайдинга, устанавливаются пластиковые стеклопакеты и т.п. В соответствии с материальным достатком изменяется и внутреннее убранство домов. В с. Париж исчезают хозяйственные постройки из природного камня. Неизменными остаются планировки усадьбы и жилого помещения, которое может увеличиваться за счет пристроек (ПМА, села Фершам-пенуаз, Париж, 2014 г.).
Наибольшую модернизацию претерпела одежда. Еще чуть более 100 лет назад женский комплекс оставался локальным вариантом кряшенского. Он сформировался в Восточном Закамье, где имел общерегиональные черты, а в начале XX в. вышел из употребления [Там же, с. 137]. Повседневная и праздничная одежда на протяжении XX в., как и у большинства населения страны, развивалась под влиянием продукции отечественной и зарубежной легкой промышленности.
Материальная культура нагайбаков и в предыдущие времена, несомненно, находилась в состоянии непрерывной трансформации, ибо это закономерно. До 1842 г. она формировалась на базе кряшенской. Затем до начала XX в. инерция сохранялась, но русское влияние уже усиливалось. В течение прошлого столетия динамика изменений в материальной культуре на-гайбаков стала еще более интенсивной.
Общественно-политические реалии XX в. не только не смогли ликвидировать этническое самосознание нагайбаков, но и способствовали его сохранению, а затем и возрождению в конце 1980-х гг. Об уровне этнического самосознания в постсоветский период говорит состояние различных элементов традиционной культуры, диагностика и мониторинг которых были проведены в 2000-х гг. [Атнагулов, 2006, 2007б]. Резюмируя все результаты анкетирования, предлагаем некоторые тезисы по данному вопросу.
Во-первых, степень сохранности основных элементов традиционной культуры нагайбаков велика в старших возрастных группах (выше 60 лет) и снижается с каждой нисходящей. Например, по пунктам «использование родного языка» (табл. 6) и «принадлежность к православию» (табл. 7) в средних и младших возрастных группах количество положительных
Таблица 6. Использование нагайбаками родного и русского языков в различных ситуациях, % *
|
Общение |
Остроленка ( N = 598 чел.) |
Фершампенуаз ( N = 792 чел.) |
Париж ( N = 752 чел.) |
||||||
|
Преимущественно нагайбак-ский |
Нагайбак-ский и русский |
Преимущественно русский |
Преимущественно нагайбак-ский |
Нагайбак-ский и русский |
Преимущественно русский |
Преимущественно нагайбак-ский |
Нагайбак-ский и русский |
Преимущественно русский |
|
|
С родителями |
24 |
48 |
28 |
9,5 |
42 |
48 |
56 |
19 |
25 |
|
С супругами |
19 |
49 |
32 |
9 |
41 |
50 |
50 |
36 |
14 |
|
С братьями, сестрами |
15 |
54 |
31 |
15 |
39 |
46 |
37 |
32 |
31 |
|
С детьми |
15 |
47 |
38 |
13,5 |
48,5 |
38 |
22 |
17 |
61 |
|
С друзьями |
11,5 |
60 |
28,5 |
2,5 |
44,5 |
53 |
30 |
27 |
43 |
|
На работе |
9 |
53 |
38 |
0 |
43 |
57 |
32 |
25,5 |
42,5 |
*См. примеч. к табл. 4.
Таблица 7. Религиозная ситуация у нагайбаков в трех селах Челябинской обл., % *
|
Возрастная группа |
Остроленка |
Фершампенуаз |
Париж |
||||||
|
Атеисты |
Православные |
Колеблющиеся |
Атеисты |
Православные |
Колеблющиеся |
Атеисты |
Православные |
Колеблющиеся |
|
|
70 и старше |
27,5 |
72,5 |
0 |
26 |
66,5 |
7,5 |
52 |
35,5 |
12,5 |
|
60–69 |
18 |
68 |
14 |
29 |
55,5 |
15,5 |
47 |
50,5 |
2,5 |
|
50–59 |
22 |
71 |
7 |
26 |
52,5 |
21,5 |
57 |
41 |
2 |
|
40–49 |
27,5 |
66 |
6,5 |
20,5 |
56,5 |
23 |
57 |
43 |
0 |
|
30–39 |
23 |
70 |
7 |
22 |
64,5 |
13,5 |
44,5 |
55,5 |
0 |
|
20–29 |
16 |
75 |
9 |
16 |
73 |
11 |
51,5 |
48,5 |
0 |
|
10–19 |
13 |
79,5 |
7,5 |
13 |
70 |
17 |
32 |
68 |
0 |
|
До 10 |
12,5 |
87,5 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
0 |
*См. примеч. к табл. 4.
ответов в разных населенных пунктах составляет 50 % и менее [Там же]. Во-вторых, отмечается наибольшая приверженность к традиционной культуре в с. Париж, где процент нагайбаков самый высокий, и наименьшая в с. Фершампенуаз со смешанным этническим составом населения. В-третьих, несмотря на стремительную утрату ряда этноидентифицирующих черт на протяжении XX в., нагайбаки сумели сохранить этническое самосознание, формировавшееся на базе как минимум двух определяющих факторов - сословной и конфессиональной принадлежности. В настоящее время первый из них утрачен, а второй не может быть маркером этнической идентичности, поскольку большинство окружающего нагайбаков населения исповедует ту же самую религию. В-четвертых, уместна постановка вопроса: какие культурные факторы реально подкрепляют этническое самосознание нагайбаков? Согласно полевым данным, необходимо выделить следующие важные признаки их этнической идентичности: осознание кровнородственных связей с представителями своего народа (даже если человек живет за пределами района и не имеет ближайших родственников в нагайбакских селениях, он должен знать (и, как правило, знает), откуда его предки), владение в любой степени нагайбакским языком (хотя бы на уровне понятий и терминов), знание основных элементов этнической культуры и осведомленность в общественных событиях в жизни народа.
Кряшены и нагайбаки в течение последних десятилетий стали объектом внимания со стороны ученых, политиков и общественных деятелей. Интерес вызван решением вопроса об их этнической принадлежности. Отмечаются две позиции, согласно которым кряшены и нагайбаки являются либо отдельными этносами, либо составной частью татар Волго-Уральского региона. Аргументами сторонников первой версии служат религиозные и сословные отличия, ряд культурных особенностей, выраженное самосознание, собственная этнонимическая номенклатура. Основания для второй точки зрения - общая языковая принадлежность, единые этнические корни и ряд общетатарских черт культуры.
Самоидентификация нагайбаков – это позиционирование своей группы как отдельного народа с использованием этнонимов «керэшеннэр» и «на-гайбаки». У кассельцев и остроленцев сохранились со времен Восточного Закамья этниконы «килий» и «са-рашлы» соответственно, а в других селах сложились новые согласно современной топонимии – «фершам-ка», «парижлар», «требий», «астапый» (ПМА, Нагай-бакский р-н). Чебаркульские нагайбаки также имеют локальные самоназвания, соответствующие местным топонимам, – «поповцы», «варламовцы» и т.п. Кроме того, у них существует еще один общеупотребительный эндоэтноним – «бакалы» (ПМА, Чебаркуль-ский р-н), который изначально относится к локальным самоназваниям того же страта, что и подобные у верхнеуральской группы – «килий» и «сарашлы», ибо генетически они восходят к этниконам нагайба-ков Восточного Закамья. Сейчас «бакалы» можно считать сформировавшимся самоназванием чебаркуль-ской группы. Таким образом, общим эндоэтнонимом нагайбаков является «керэшеннэр», употребляемый как внутри групп, так и в общении с остальным татароязычным населением. Экзоэтноним «нагайбаки» используется при общении с представителями других народов, не говорящих по-татарски. У чебаркульской группы, несмотря на меньшую численность по сравнению с верхнеуральской, этнонимическая номенклатура более сложная, поскольку включает помимо кряшенского и нагайбакского еще бакалинский и русский уровни самоидентификации.
Периодизация становления нагайбакской идентичности и основные выводы исследования
История формирования нагайбакской идентичности делится на три периода. Первый – с 1552 по 1736 г., когда на территории Казанской губ. происходили этнокультурные процессы, в результате которых возникли группы крещеного инородческого населения. Во многом они были еще связаны с казанскими татарами, что отражалось в языке и различных аспектах жизнедеятельности. По мере усиления влияния православия, культурная доминанта смещалась в сторону сближения с русскими. Проявлялось это везде по-разному, но суть трансформаций была одна. В итоге сформировался ряд территориальных групп инородческого христианизированного населения, обозначавшего себя конфессионимом «керэшеннэр», т.е. «крещеные». Вероятно, изначально среди них были различные этнические группы, но поскольку татарский компонент доминировал, то и языком общения стал татарский. Элементы материальной культуры настолько гибки, что сложилось несколько локальных вариантов кряшенской культуры в зависимости от этнического окружения. В данный период формирования идентично сти нагайбаков считаем важнейшим факт христианизации их предков и усвоения этнокон-фессионима «керэшеннэр».
Второй период – с 1736 по 1843 г. Уфимская пров. в 1730-х гг. являлась восточной периферией расселения кряшен, где сложилась локальная группа – «уфимские новокрещеные». Среди них было немало и старокрещеных [Рычков, 1762, ч. II, с. 206–208] казанских татар, переселенных сюда в связи со строительством Новой Закамской линии. В 1736 г. их перевели из ясачных в казаки и поселили в построенной в том же году Нагайбакской крепости, с. Бакалы и ряде окрестных деревень. Это второй важнейший факт в формировании этниче ского самосознания нагайбаков. Татары-казаки Нагайбакской крепости и округи постепенно отдалялись от соплеменников-неказаков. Для большего укрепления их в православии из этого региона выселили всех мусульман. В конце XVIII в., когда была проведена административная реформа Оренбургского казачьего войска, нагайбаки оказались в одних кантонах с казаками-русскими, в то время как другие инородческие группы казаков (башкиры, мещеряки и теп-тяри) были организованы в собственные войсковые подразделения [Асфандияров, 2005, с. 20]. Это, безусловно, повлияло на дальнейшее развитие нагайбак-ской идентичности.
К началу 1840-х гг. на территории Белебеевско-го уезда Уфимской губ. в станицах Нагайбакской, Бакалинской и др. в составе местных кряшен окончательно сформировалась сословная группа казаков. В качестве эндоэтнонима продолжал использоваться общий для всех крещеных татар конфессионим «керэшеннэр». Вероятно, такая же ситуация была и в первой половине XIX в., поскольку названия «на-гайбацкие казаки» и «казаки-нагайбаки» являлись экзогенными и воспринимались как русское обозначение. Итогом второго периода стало формирование у нагайбаков двухуровневого самосознания: этнокон-фессионального («керэшеннэр») и этносо словного («казаки-нагайбаки»).
Третий период начался с 1843 г. и продолжается в настоящее время. В первую очередь здесь следует сказать о перемещениях нагайбаков и их последствиях. По плану войскового командования, всех казаков-нагайбаков переселили в три района новой дислокации: 1) Троицкий, 2) Верхнеуральский, 3) Оренбургский и Орский уезды [Бектеева, 1902, с. 180]. В последнем они были ассимилированы татарами-мусульманами [Там же, с. 180–181]. В Троицком и Верхнеуральском уездах новыми соседями нагайба-ков стали русские и казахи. Здесь сложилась ситуация, которая повлияла на дальнейшее формирование нагай-бакской идентичности. Нагайбаки Верхнеуральско- го уезда расселились в пяти поселках с почти моноэтничным (кроме небольшого числа калмыков) населением. Это позволило им сохраниться как целостной этнокультурной единице. В то же время, согласно административному делению, нагайбакские поселки подчинялись разным станицам с русским населением, что способствовало интенсификации нагайбакско-русских контактов.
Во второй половине XIX – начале XX в. объект нашего исследования уже постоянно обозначается как «нагайбаки» [Небольсин, 1852, с. 21; Витевский, 1897, с. 439; Бектеева, 1902, с. 165; и др.], а не «старокрещеные татары-казаки». Вместе с тем оба названия часто используются вместе: «нагайбаки – крещеные татары» или «нагайбаки – крещеные татары-казаки» [Небольсин, 1852, с. 21; Витевский, 1891, с. 257; Толстой, 1876, с. 350–351; Чернавский, 1900, с. 128–129; Бектеева, 1902, с. 165; и др.]. Здесь отразился процесс трансформации самоидентификации нагайба-ков. Уточнение об их происхождении скорее служит информацией для непосвященного читателя. Таким образом, во второй половине XIX в. название «нагай-баки» было одновременно обозначением и прежней сословной, и нарождающейся этнической принадлежности.
Итогом этнотрансформационных процессов второй половины XIX – начала XX в. у нагайбаков стали события 1920-х гг. Безусловно, это связано со сменой политического режима. Вновь, как почти 200 и 80 лет назад, в истории нагайбаков решающую роль играет государство. Воздействия на их этническую идентичность различных общественно-политических событий 1920-х гг. и всех последующих десятилетий весьма противоречивы. Отмена сословий и антирелигиозная политика, казалось бы, должны были уничтожить основания этнической идентично сти нагайбаков. Однако в материалах Всесоюзной переписи населения 1926 г. они зафиксированы как отдельный народ СССР и в качестве этнонима выбрано название «нагайбаки». Это еще раз подтверждает, что к началу XX в. данное обозначение, использовавшееся до 1843 г. вместе со словом «казаки» и являвшееся исключительно соционимом, становится этнонимом.
Другим важнейшим государственным актом является создание в 1927 г. Нагайбакского р-на. Известно, что в то время по всей стране создали множество национальных районов и сельсоветов для народов, численность которых не позволяла организоваться в республику или национальный округ. Однако уже через де сять лет почти все они были упразднены. Это совпало с сокращением перечня национальностей СССР во время Всесоюзной переписи населения 1936 г. По какой-то причине нагайбаки, оказавшись лишенными собственного этнонима (как и большин- ство о стальных малочисленных народов страны), не утратили права на национально-территориальное образование. Создание и сохранение национально-административной единицы можно считать еще одним и последним в истории народа событием, внесшим весомый вклад в фундамент нагайбакской идентичности. Нагайбаки прошли исторический путь от сословной группы – крещеных татар-казаков Уфимской пров. – до этноса, проживающего ныне в основном в Нагайбакском и Чебаркульском р-нах Челябинской обл.
Список литературы Нагайбаки: от сословия к этносу (к вопросу о генезисе идентичности)
- Асфандияров А.З. Кантонное управление в Башкирии (1798-1865 гг.). - Уфа: Китап, 2005. - 256 с
- Атнагулов И. Р. Поселения и жилища верхнеуральских нагайбаков во второй половине XIX - начале XX века // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2004. -№ 4. - С. 149-159.
- Атнагулов И.Р Языковая ситуация у нагайбаков как составляющая этнической идентичности // Проблемы истории, филологии, культуры. - 2006. - Вып. XVI, № 2. -С. 390-396.
- Атнагулов И.Р Нагайбаки: опыт комплексного историко-этнографического исследования хозяйства и материальной культуры второй половины XIX - начала XX века. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007а. - 244 с.
- Атнагулов И.Р Религиозная идентичность нагайбаков: история формирования и современное состояние // Проблемы истории, филологии, культуры. - 2007б. - Вып. XVIII. -С. 305-312.