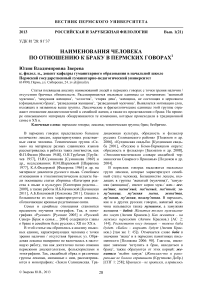Наименования человека по отношению к браку в пермских говорах
Автор: Зверева Юлия Владимировна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 1 (21), 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу наименований людей в пермских говорах с точки зрения наличия / отсутствия брачных обязательств. Рассматриваются языковые единицы со значениями: ‘женатый мужчина', ‘замужняя женщина', ‘холостяк', ‘старая дева', ‘женщина, не состоящая в церковном (официальном) браке', ‘разведенная женщина', ‘разведенный мужчина'. Выявляется мотивация слов, входящих в названные выше группы. Лексические и фразеологические единицы этой группы отражают отношение диалектоносителей к семейной жизни, а также их представления о браке. На примере описываемого материала обнаруживаются те изменения, которые происходили в традиционной семье в XX в.
Пермские говоры, лексика, тематическая группа, брак, безбрачие
Короткий адрес: https://sciup.org/14729189
IDR: 14729189 | УДК: 81'28:
Текст научной статьи Наименования человека по отношению к браку в пермских говорах
В пермских говорах представлено большое количество лексем, характеризующих родственные связи человека. Тематическая группа «Семья» на материале разных славянских языков рассматривалась в работах таких лингвистов, как Ф.П.Филин [Филин 1948], О.Н.Трубачев [Трубачев 1957], Н.И.Сумникова [Сумникова 1969] и др., исследованиях И.М.Шараповой [Шарапова 1977], К.А.Федоровой [Федорова 1964] и др. на материале диалектов русского языка. Семейным отношениям в этнолингвистическом аспекте были посвящены статьи сборника «Категория родства в языке и культуре» [Категория родства… 2009], а также работы И.Б.Качинской [Качинская 2011], А.Б.Коконовой [Коконова 2011]. Однако в большинстве из них характеризуются лексемы, обозначающие кровные родственные связи.
Семья и семейные отношения становятся предметом изучения этнографов. Так, в монографиях «Русские» [Русские 2005] и «Русский Север» [Брак и семья… 2004] содержатся главы о браке и семейном быте русских с XII по XX в.
В этой статье мы обратились к анализу языковых единиц, характеризующих человека с точки зрения наличия / отсутствия брачных уз. Обрядовая лексика намеренно не включалась в настоящую работу, так как достаточно полно описана пермскими диалектологами, фольклористами и этнографами. Так, свадебный обряд и различные группы лексики, связанные с ним, рассматриваются в монографиях: «Земля Соликамская. Тра- диционная культура, обрядность и фольклор русских Соликамского района» [Подюков и др. 2006], «Куединская свадьба» [Куединская свадьба 2001], «Русские в Коми-Пермяцком округе: обрядность и фольклор» [Бахматов и др. 2008], «Этнолингвистическом словаре свадебной терминологии Северного Прикамья» [Подюков и др. 2004].
В пермских говорах выделяется несколько групп лексики, которые характеризуют семейный статус человека. Большинство лексем, входящих в группы ‘женатый (мужчина)’, ‘замужняя (женщина)’, имеют корни муж-/ жен-: же-на'тик , жени'мый , же'неный , же'нный ; за-му'жница , му′жняя жена , жена′тая , му′жная , му′жняя , позаму′жняя . В пермских, как и в других русских говорах, женатый мужчина называется также мужиком , а замужняя женщина – бабой : Женатых только мужиками-то зовут (Акчим Краснов.); Как женится – на мужика переходит (Акчим Краснов.) [АС 2: 144]; Росплетают косу девицью – тожно баба будет. «Баба» – кыркать будут (Акчим Краснов.) [там же 1: 45]). Отмечается слово баба в значении ‘жена’ и в пермских памятниках письменности [Полякова 2006: 90]. Глаголы, имеющие значение ‘вступить в брак, находиться в браке’, также образуются от этих корней: жениться ‘выйти замуж’ ( Женилась-то я рано: раньше не больно спрашивали (Крутиково Добр.) [СПГ 1: 258]; Нравился – не нравился, а пришлось
на ём жениться (Редикор Черд.) [КСРГСПК]); оба′биться ‘жениться’ ( Только я обабился, взяли на фронт (Гилева Краснов.) [СПГ 2: 15]); обму-жа′ться ( Я и не собиралась замуж-от. На лесозаготовках вот попала дак, мой Пашуня, мужик, да и… Так получилось. Обмужались, обабилис я (Советная Сукс.) [СРГЮП 2: 206]); поза-му′жествовать ‘побывать замужем’ ( Позаму-жествовала и не каюсь (Рогали Оч.) [СПГ 2: 140]).
Для именования женатого человека могут использоваться слова сам ( Сам вот ещё живой был, дак начал баню перестраивать (Молебка Киш.); А ты почто одна? Сам-от где у тебя? (Ключи Чернуш.) [СРГЮП 3: 66]; Сам-от окрестил собаку Барином, я согласилась (Камгорт Черд.); Кто как мужа-то зовут: кто и хозяин, а тот и «сам» скажут (Черд.) [КСРГСПК]) и хо-зя′ин ( Четыре года прожили мы со своим хозяином. Стала война. И вот его убило (Ныроб Черд.); А свекровку кто мамкой да мамашей, а мужа мужиком не называла, всё хозяином (Кам-горт Черд.); Трое живём: хозяин да сын (Камгорт Черд.) [там же]). Как правило, эти единицы используются в речи женщины, которая говорит о своем муже. Мужчина также может называть свою жену хозяйкой , однако такие примеры мы находим только в картотеке СРГСПК, в других пермских диалектных словарях лексема не отмечается: Хозяйки брат возит дрова, шурин мой (Покча Черд.); У меня хозяйка померла, ето у меня вторая (Мартино Краснов.); Мужик свою жону зовёт бабой, хозяйкой, старухой (Пянтег Черд.) [там же].
Наличие брачных уз у человека носителями говора обычно воспринимается положительно, это подчеркивается определением па′рный : Все дети у меня уж парные, живут со своими семьями уж (Зубакина Ильинск.) [СПГ 2: 76]. Это значение лексемы можно соотнести с другим: парный ‘соразмерный, пропорциональный ’( Ты вся парная девка, шибко славная. (Володино Сол.) [там же]). От корня пар - образуются также глаголы па′риться / спа′риться ‘жениться’: Годов-то ему уже много. Пора и ему париться, семью заводить (Максимята Ильинск.) [там же: 75]; На этой неделе у Марии сын спарился. Хороша уж больно невеста-то: баская, роботящая (Ключи Сукс.) [там же: 381].
Мужчина и женщина, не состоящие в браке, часто обозначаются словами, имеющими корни муж-/ жен-, к которым прибавляются приставки не- и без-: нежена′тик ‘неженатый мужчина’, нежени′мый ‘холостой’, беззаму′жняя, без-му′жняя, нежени′мая ‘незамужняя’. Положение замужней / незамужней женщины может ха- рактеризоваться контекстуальными антонимами занятой – свободный: Девки, вы свободные ещё, молодые? – Да, незамужние. – А то занятые будете, так не наездите много (Сосновка Ка-раг.) [там же: 322]. Для носителей народного сознания отсутствие брачных обязательств является нормальным, если речь идет о еще молодом человеке. Это представление объясняет значение ‘неженатый мужчина’ у лексемы молодя'шка (Я молодяшкой в это времё ещё был, неженатой… (В.Мошево Сол.) [там же 1: 521]).
В том случае, если мужчина не женится или женщина не выходит замуж спустя продолжительное время после достижения брачного возраста, то в их номинациях нередко присутствует определение старый : ста'рая де'вка , ста'рый ме'рин , ста'рый морко'вник , старый оба′бок , ста'рый подови'нник , ста'рый ра'тник ‘о долго не женящемся мужчине’; ста'рый морко'вник – и о ‘женщине, не бывавшей замужем’. Наименования ‘долго не женящегося мужчины’ / ‘долго не выходящей замуж девушки’ могут содержать корень стар -: старик ‘неженатый мужчина за 30 лет’ ( От стариков отбоя нет, все сватаются к молоденькой девчушке (Толстик Сол.) [там же: 396]), переста ' рок ‘девушка, долго не выходящая замуж’ ( Эта девушка уже перестарок (Песчанка Кунг.) [там же: 92]).
Диалектоносители 1920-1930-х гг. рождения на вопросы о времени замужества отвечают, что девушка должна была выйти замуж до 25 лет: [А выходить замуж когда было принято, в каком возрасте?] Когда возьмут. [Ну, а двадцать – это уже было поздно?] Как не поздно, я вообще старухой вышла, в двадцать пять… (Ныроб Черд.); [А вы во сколько лет замуж вышли?] Мне уж больше двадцати было, да, больше двадцати мне. На двадцать втором, наверно, двадцать один мне уж было, на двадцать втором . [А разве считается старой девой?] Да, двадцати пяти годо́ в замуж не годятся, раньше частушку пели (Керчево Черд.) [КСРГСПК].
Человек, не состоящий и не бывший в браке, воспринимается как ущербный; так, холостой мужчина может сравниваться с холощеным животным: как холосто'й бара'н (Тут девчонок-то и нету. Парни-от и ходят, как бараны холостые (Акчим Краснов.) [АС 6: 127]); старый мерин (Фрол-от всю жизнь прожил старым мерином, ни жены, ни детей у его не было (Андреево Киш.) [ФСПГ: 214]). Долго не женящийся мужчина может быть назван старым обабком (Смотри, Витя, дороешься в девках, останешься старым обабком (Ненастье Окт.) [там же: 241]). Сравнение с обабком (подберезовиком в литературном языке) объясняется тем, что у старых грибов мякоть становится губчатой, водянистой, т.е. непригодной в пищу: Обабки – они кислые. Корешок тоненькой, шляпа больша. Раскиснет, его уж не жарить, не варить, только под гору валить (Пянтег Черд.) [КСРГСПК].
В номинациях старый морковник ( Старой морковник – который парень долго не женится (Покча Черд.) [КСРГСПК]) и старый ратник ( У нас один долго не женился, дак говорили: старой ратник идёт. Лет, можёт быть, сорок пять ему. Так у нас и звали таких-то мужиков – старой ратник (Губдор Краснов.) [СПГ 2: 282]) также присутствует семантика ‘не годящийся в употребление, бесполезный’. В пермских говорах морковник – пирожок с морковью; такая начинка пирога объясняется тем, что морковь – корнеплод, имеющий эротическую символику [СД 3: 301], т.е. холостяк сравнивается с испортившимся продуктом питания, символизирующим мужскую силу. В составе фразеологизма старый ратник слово ратник имеет значение ‘ополченец, солдат запаса’ ( Я раньше ратником был, в армию-то меня не брали (Тобол Ильинск.) [СПГ 2: 282]; Раньше ратники были. Война или что в армию возьмут, всякий возраст (Покча Черд.) [КСРГСПК]). Таким образом, в основе фразеологизма лежит сравнение холостяка со старым воином, который негоден к службе из-за возраста.
Долго не женящийся мужчина в пермских говорах получал также название старый подовинник ( Старой подовинник сватался ко мне: мне двадцати не было, а ему тридцать; старыми подовинниками звали этих-ту ребят. Я ему и скажи: «Ты, старой подовинник, не дозорь меня и не ухаживай» (Толстик Сол.); Стар-от подовинник долго не женится; ой, ты старой подовинник уж, говорят, негодной элемент. Двадцати пяти – тридцати годов не женится – старой подовинник (Ушакова Сол.) [СПГ 2: 125]). Скорее всего, в основе устойчивого выражения лежит сравнение холостяка с сухим поленом, употреблявшимся для отопления овина ( Ето подовинниками называли сухие дрова, которые жгли, когда жито сушили (Черд.) [КСРГСПК]). А.В. Гура, автор статьи «Безбрачие» в этнолингвистическом словаре «Славянские древности», приводит похожие наименования из болгарского языка: « огорел , опален пън [обгорелое бревно] – о холостых и бездетных» [Гура 1995а: 147].
Одно из наименований старого холостяка – осталец – образовано от глагола остаться : З а которых девки не пойдут, они остальчи, не гожи (Чужья Юрл.); Остальчи-то – это мужики, за которых девки не идут замуж, остались вроде как (Зула Юрл.) [СРГКПО: 172].
В пермских говорах фиксируются также сочетания старая девка ‘ холостяк’ ( В деревне парней-то мало, а две старых девки есть, Санко да Михаил; не могут себе пару найти (Усть-Иргино Сукс.) [СПГ 1: 204]) и ◊ старый морковник ‘немолодая незамужняя женщина’ ( Старый морковник, никто взамуж не берёт, старая дева (Покча Черд.) [КСРГСПК]). А.В. Гура видит причины возникновения подобных сочетаний в том, что «понятие “безбрачие” нейтрализует противопоставление людей по возрасту и полу» [Гура 1995а: 147].
Представление о неопределенном статусе холостого мужчины реализуется во фразеологизме соло'менный вдовец ( Соломенный вдовец – холостяк (В.Мошево Сол.) [СРГСПК 1: 195]). Именно на основе признака промежуточности, неустроенности происходит перенос ‘мужчина, временно оставшийся без жены или не живущий с ней’ [СРФ: 69] → ‘холостяк’. В диалектах белорусского языка фиксируется похожий фразеологизм с тем же значением – соломены жэнiх [ЧТС: 41].
Устойчивые выражения, обозначающие старую деву, образуются на основе сравнения девушки с чахлым, неплодоносным растением: сухое верховище ( Ты что, бабушка, замуж-то не выйду, дак сухим верховищём назовут (Воскресенск Караг.) [ФСПГ: 44]); непересаженная капуста ( Долго взамуж не берут, дак зовут непе-ресаженной капустой, стыдно (Большой Букор Чайк.) [СПГ 1: 377]). Кроме того, капуста у славян обладает, как пишет В.В. Усачева, обладает брачной символикой [Усачева 1995: 461], используется в различных ритуалах, связанных со вступлением в брак. Растение также связано с появлением детей: их находят в капусте, внебрачных детей в русских говорах называют ка-пустничек [СРНГ 13: 60] и подкапустник [СРГЮП 2: 360]. Таким образом, в именовании непересаженная капуста подчеркивается бездетность женщины, не вышедшей замуж.
Представление о неестественности незамужнего положения женщины, своего рода «социальной смерти», находит отражение в таких языковых единицах: поко'йнишный дух (До 15-16 [лет] – девушка, с 15-16 – девкой называют, с 22 [лет] – покойнишной дух (Касиб Сол.) [КСРГСПК] и отжита'я (Отжитая [о старой деве], дак чё уж про неё и говорить (Купчик Черд.) [там же]). Авторы словаря «Славянские древности» отмечают, что «в народном восприятии безбрачие смыкается с бездетностью и прерванной беременностью, с которыми его объединяют общая негативная оценка, сходные поверья о причинах и последствиях этих явлений и сходные способы избавления от них» [CД 1: 147].
Лексемы со значением ‘старая дева’ могут быть образованы от глаголов засидеться и (не) пойти : засидуха , засиделка , непошлица, непо-шленная ( Засидуха, она больно уж шибко браковала парней, вот те и сиди топерь одна (Янидор Черд) [КСРГСПК]; Да вот в засиделках осталась, хоть раньше и мало засиделок-то было; раньше бьют, да все равно взамуж отдают (Вильва Сол.) [СПГ 1: 309]; Непошлица – которая девка взамуж не выйдет. Чё-то не пошла взамуж, непошлица (Вёлгур Краснов.); Непо-шлица – котора долго в девках сидит. Старая дева, никудышная, непошленная. Старой девой зовут, непошленной, котора долго засидится (Сыпучи Краснов.) [КСРГСПК]).
Значение лексем бесшамшурная ‘старая дева’ ( Марья-то у Ошлаповых бесшамшурная: взамуж она не выходила; беда злая она, нехорошая (Попово Сол.) [СПГ 1: 38]) и пустоволоˊска ( Раньше в шестнадцать лет уж взамуж отдавали, а нынче бегают до тридцати, пустоволоски (Подпавлиново Кунг. [СРГЮП 2: 489]) связано с отсутствием у девушки головного убора замужней женщины – шамшуры .
Девушка, долго не выходящая замуж, называется в пермских говорах также брако'вкой ( Браковка эта девка, парням не нужна она (Акчим Краснов.) [АС 1: 86]), брако'ванной ( Девушка родила ребёночка, так и проживёт век бракованной (Вильва Сол.) [СРГСПК 1: 138]) и бро-си'хой ( Бросиха – девка, которая не вышла замуж (Писаная Краснов.) [там же: 150]). Причиной, из-за которой девушкой пренебрегают женихи, носители говора считают недостойное поведение или болезнь: Стара дева, невеста бросовая, браковка. Иногда погуляет несвоевременно или нездоровая, из-за этого бракуют (Тиуно-во Гайн.) [КСРГСПК]. Таким образом, современные жители села находят вполне рациональные основания безбрачия. В традиционной культуре, о чем пишет автор статьи «Безбрачие» в словаре «Славянские древности», причины такого положения человека видятся в «порче, нарушении запретов и ритуальных правил» [Гура 1995а: 147].
Именно поэтому лексика, входящая в группу ‘незамужняя женщина’, частью пересекается с тематической группой ‘незамужняя женщина, имеющая связи с мужчинами и / или родившая внебрачного ребенка’: зауго'льница, кува'ка, миро'ниха, нагу'льная де'ва, незаму'жница, приведе'льница, робя'тница, чу'рошница. Такие единицы чаще всего мотивируются словами, обозначающими ребенка (в том числе внебрачного): кувака ‘маленький ребенок’ → кувака ‘девушка, родившая вне брака’ (Вон Мария-то у нас тоже кувака, нагуляла ребёнка, так со стыда в Сибирь уехала (Андреево Киш.) [СПГ 1: 445]); робята → робятница (Робятница – котора ребят-то в девках носит. Так называют (Акчим Краснов.) [АС 5: 32]; Есть у нас в деревне и робятницы, детей-то много, а замужем не бывали (Н.Бычина Краснов.) [СПГ 2: 293]); чурка ‘внебрачный ребенок’→ чурошница (Заугольница, чурошница – если замуж не выходила. У нас одну бабу всё заугольницей звали (Тиуново Гайн.); мирон ‘внебрачный ребенок’→ мирониха, мироньица (Танька-то у нас мироньица, мужика-то у иё и не было (Юм Юрл.) [СРГКПО: 149]; Мирониха – женщина, родившая вне брака, мирон – ребёнок (Шипицыно Гайн.) [КСРГСПК]). Эти синонимичные названия в большинстве случаев являются оценочными и имеют отрицательную коннотацию.
Анализ языковых единиц, называющих людей, не состоящих в браке, показывает отрицательное отношение диалектоносителей к ситуации безбрачия, а также к холостякам и незамужним женщинам. Такое отношение объясняется, в первую очередь, традиционным хозяйственным укладом жизни крестьян, который существовал вплоть до начала XX в.: «Только женатые люди могли быть правомочными при сельских сходах, имели возможность получить в надел землю, завести самостоятельное хозяйство, для нормального существования которого необходимы и мужские, и женские руки при традиционном половозрастном разделении труда в семье и в обществе» [Русские 2005: 419].
После революции церковный брак сменяется гражданским, а позже и совместным проживанием без регистрации отношений. В пермских говорах отмечается большое количество языковых единиц, которые называют женщин, не состоящих в церковном / официальном браке: безза-ко′нная баба (Она беззаконная баба была, с другим согрешила, а у того законная была (Лопва Юрл.) [СРГКПО: 44]); беззако′нница (В церковь ходили на службу. Я в недоростках-то ходила, а прожила беззаконницей, не лишко по церквям-то пришлось, не венчана замуж вышла (Красный Ясыл Орд. [СРГЮП 1: 48]); наво′зница (Раньше кого не венчали, так пожилянкой, навозницей женщину называли (Малютина Ус.) [СПГ 1: 542]); найда′нка и приколи′тая (Я законная [жена], а нонче приколитые и найданки. Не обвенчаются, дак как наложники (Пянтег Черд.) [КСРГСПК]); нало′га (Налога не винчана, так живёт (Покча Черд.) [там же]; нало′жница (К мужику не обвенчаются ничё, дык она уже наложница. Ето уж третья. Нельзя жениться три раза. Третья незаконная – наложница. Нынче наголо наложницы (Редикор Черд.); Наложница – незаконная жена, не венчались, не записывались (Покча Черд.) [КСРГСПК]); по-жиля′нка (Невенчаных-то девок у нас пожилян-ками называют (Пыскор Ус.) [СПГ 2: 138]); при-стяжна′я (прицепна′я) жена (Третья-то у него пристяжная жена была, приговорил такую, не венчались, так жили (Харюшино Сол.); Прицепная жена у Валеры, ребёнок у ей есть, а не расписывались (Осокино Сол.) [там же 1: 257]); при-ведёныш (Свекровь всё ругала: ты приведёныш! Не жена, а приведёныш! (Акчим Краснов.) [АС 4: 126]); соˊбра (У Ивана жена-то в войну померла, в дом он принял собру. Живут незаконно, не венчаны (Брод Бер.) [там же 2: 367]).
Лексемы найданка , приведёныш, пожи-лянка мотивированы глаголами найти , привести , пожить , которые подчеркивают случайность и недолговечность неофициальных отношений между мужчиной и женщиной, которые не скреплены официальным (церковным) браком. Лексема приколитая образуется от глагола приколтаться ‘пристать, присоединиться к чему-либо, кому-либо’, ‘приблудиться (о скотине)’, ‘надоесть’ [СРНГ 31: 255]. Производным от этого глагола является также слово приколитыш (приколтыш) , имеющее значения ‘внебрачный ребенок’ [СРНГ 31: 255], ‘ребенок, пристающий к родителям’ [КСРГСПК], ‘попрошайка’ [АС 4: 131]. Ряд однокоренных слов имеет отрицательную коннотацию, которая объясняется общей семантикой ‘случайное, нежеланное появление’.
Языковые единицы беззако′нница и безза-ко′нная баба образованы от слова закон ‘брак, супружество’ ( В перв-от закон их венчали даже, а всё равно не пожилося (Ножовка Чайк.) [СПГ 1: 290]) с помощью отрицательной приставки без-. Во фразеологизме пристяжна′я баба актуализируется сема ‘дополнительный, неосновной’, так как слово пристяжной имеет значение ‘идущий в пристяжке, сбоку, в помощь коренной лошади’ [Алексеенко 2004: 98].
Носители говоров не считают невенчанную жену настоящей, поскольку основной ее ролью считают интимную близость. Это представление находит отражение в лексеме нало′жница ‘любовница’, которая, по мнению авторов «Этимологического словаря славянских языков», образована от словосочетания *na loћe [ЭССЯ 22: 179]. Лексема нало′га, которая фиксируется только в пермских говорах, скорее всего, является дериватом от слова наложница и образована в результате десуффиксации. Схожая семантика обнаруживается у лексемы со′бра. Хотя единица не встречается в других русских говорах, мы можем предположить, что она связана с лексемой собрана ‘подруга, приятельница’, зафиксированной в ярославских и вологодских говорах [СРНГ 39: 173].
Обычно лексемы этой группы имеют отрицательную окраску, так как само отношение к сожительству без регистрации (без венчания) было негативным: Раньше-то спозорно считалося, если в церкви не венчались дак, а тепере обвенчаются круг бани ожегом да и ладно, живут (Касиб Сол.) [СПГ 2: 15]. Отрицательную коннотацию имеют и фразеологизмы, называющие гражданский брак ( блудный брак , собачье замужество ) и вступление в брак без венчания ( играть свадьбу круг поганого ведра , обвенчаться круг бани ожегом , венчаться за углом , сходиться по-за углам , выйти по-бешеному , вокруг ёлки обежать , окрутить вокруг столба, как мухи сбежаться, сойтись зайцем ).
Мужчину, который живет с женщиной без венчания, называют блудником ( Не повенчаешься, дак блудником и будешь (У.Уролка Черд.) [СПГ 1: 42]); наложником ( Наложник, если женшына овдовела, к ней пришёл другой, она с ним не обвенчалась (Покча Черд.) [КСРГСПК]) и пустосёлом ( Не повенчашься, дак пустосёлом и будёшь (Уролка Сол.) [СПГ 2: 247]). Эти лексемы так же, как и слова со значением ‘женщина, не состоящая в церковном браке’, имеют отрицательную окраску. Относительно небольшое количество таких единиц в диалектном лексиконе объясняется тем, что к женщине всегда предъявлялись более строгие моральные требования, чем к мужчине.
Чтобы подчеркнуть факт нахождения в браке, к лексемам жена и муж добавляются определения венча'лый , зако'нный , коренно'й ( Я когда замуж-от выходила, дак венчалая была (Перино Караг.) [СПГ 1]; Если законная жена ушла, а вторая пришла, то она наложница (Камгорт Черд.) [КСРГСПК]; Закон приняла, коренная [жена], а нет – так налога (Покча Черд.); Коренного мужа бросишь, дак не венчают (Покча Черд.) [там же]). От прилагательного законная образуется омонимичное существительное со значением ‘замужняя женщина, обвенчанная в церкви’ ( Венчанные невесты вязали гарусный пояс справа, незаконные – пояс вообще не одевали. После того, как невесте заплели две косы, свахи на голову законной платок вязали под подбородком (Бедряж Чернуш.) [СРГЮП 1: 304].
Женщины, родившиеся в 20-х гг., XX в. упоминают, что выходили замуж вопреки воле родителей, такую свадьбу называли краденой, бег- лой, гусявой [ЭССТСП: 149–150]. Девушка, вышедшая замуж без благословения родителей, называлась беглянкой и беззаконницей (Беглянка – без свадьбы ушла (Базуево Гайн.) [СРГСПК 1: 75]; Беззаконницы – без свадьбы (Гайн.) [там же 1: 79]).
Ситуация развода в XX в. стала обыденной, носители диалекта пожилого возраста подчеркивают разницу между современным отношением к браку и тем, которое было раньше: Нынче запи-салися, пожили десять дён, не понравились – развелись. А раньше-то хоть бьют, ругают, а дисциплина – живи. Хоть иной пьяница, может, попадёт и жену бьёт, но нельзя уходить. Венец с головы нельзя бросать (Посад Киш.) [СРГЮП 1: 80]. В прошлом развод считался позором для семьи: Попадется мужик неуноровной... и уйти нельзя: позор; беглянка, скажут (Жуланова Сол.) [СПГ 1: 28]. Это отрицательное отношение к разводу подтверждается и тем, что в говорах, кроме лексем, называющих разведенных мужчину и женщину, также фиксируются слова, обозначающие инициатора развода, которые обычно обладают отрицательной коннотацией.
Большинство лексем со значением ‘разведенный мужчина’ и ‘разведенная женщина’ мотивированы корнями жен - и брос -: разже'нец ( Развёлся с бабой – разженец (Покча Черд.) [КСРГСПК]), разже'ня ( Беглянка звали, если убежала от мужика, а его розженя (Покча Черд.) [там же]), броше'ня (У меня б мужик был, я бы бросила, брошенный муж – брошеня, и всё (Вёлгур Краснов.) [СРГСПК 1: 151]), разжёнка ( Живёт одна, разведённая, без мужика, розжён-ка. Всё, однако, развелася с мужиком (Покча Черд.) [КСРГСПК]), броси'ха ( Бросиха – женщина, от которой муж ушёл (Камгорт Черд.) [СРГСПК 1: 151]), бро'совка ( Она бросовка была, таких на свадьбу-то не очень жаловали (Ан-дроново Чернуш.) [СРГЮП 1: 80]), бро'шенка ( Брошенка она у нас, прошлый год мужик-от ушёл у ей (Аралки Чайк.) [там же]). В говорах отмечаются также дериваты от слова развод : разведёнка , разводка ‘разведенная женщина’ и разведенец ‘разведенный мужчина’.
Слово ра'тник обозначает любого из разведенных супругов ( Подруга моя была ратником, она выходила замуж, а потом обратно ушла (Б.Букор Чайк.); Как их нынчё развелося, ратников несчастных (Малахова Сив.) [СПГ 2: 282]). Значение лексемы является переносным от ратник ‘ополченец, солдат запаса’. Таким образом, брак носителями говора воспринимается как некая служба, а развод как уход со службы.
Лексемы со значением ‘мужчина, ушедший из семьи’, ‘женщина, оставившая мужа’ чаще всего образуются от глагола бегать (бежать): бегле′ц (Не стал свою семью кормить, от жены убежал, детей бросил – беглец ведь (Акчим Краснов.) [АС 1: 57]); бегля'нка (У меня самой матерь убежала, разорила мужика свово, кто же она, как не беглянка? (Акчим Краснов.) [там же]); бе′женка (У нас Параня убежала от мужа, не любила его; а мать повадку дала, приняла ее, дак она и убежала. Позор-от был какой! Говорили: «Беженка, беженка!» (Володино Сол.) [СПГ 1: 29]). В южных говорах Пермского края зафиксирована также лексема с корнем ход- – отхо′жка ‘женщина, бросившая мужа’ (У нас отхожка тут жила, ушла от мужа сама (Анд-роново Чернуш.) [СРГЮП 2: 269]). Таким образом, супруг, ушедший из семьи, воспринимался как человек, нарушивший свои обязательства. Представление о том, что ушедший из семьи человек избегает обязательств, не занимается полезной деятельностью, реализуется в лексемах бродя′га (Бродяга – мушшына, который ушёл от жены (Покча Черд.) [СРГСПК 1: 147]) и гуля′ка (Который свою жену бросил, с другой гулят – тот гуляка. Жена мужа бросила, тоже гуляка (Покча Черд.) [КСРГСПК]).
Для обозначения мужчины, оставившего семью, употребляется фиксируемое только в пермских говорах слово дроба'н ( Гляди, мо, зимого-ры-те разошлися, или дробаны. Бросит мужик-от, его дробаном зовут (Велгур Краснов.) [там же]. В составе лексемы можно выделить корень дроб - и суффикс - ан (по аналогии со словами брюхан , пузан ). Этот же корень содержится в глаголе дробить (*drobiti ‘крошить, ломать’ [ЭССЯ 5: 119]), таким образом, дробан – человек, который «дробит», разрушает семью.
Негативная коннотация особенно ощущается у лексем этой группы, образованных путем метафорического переноса. Так, значение слова межеу'мок ‘женщина, ушедшая от мужа’ ( Межеумок – от мужика ушла. Ты не девка и не баба (Черд.); Женщина замуж выходит, пожила маленько, потом ушла, вот и межоумок (Черд.) [там же]) является переносным от межеумок ‘слабоумный человек’ ( Межеумок – недоумок, не хватает ли чё (Езова Черд.) [там же]). Таким образом, решение женщины оставить мужа воспринимается носителями говора отрицательно.
В картотеке «Словаря русских говоров севера Пермского края» у полисемичного слова зимогор отмечается значение ‘мужчина, ушедший из семьи’ (Муж пришёл с войны, ночи не спал, ушёл и всё ходит. Бросил семейство, зимогор (Брюха-ново Черд.); Зимогор бросит бабу (Ныроб Черд.) [там же]). Семантика слова объясняется первым значением ‘сезонный рабочий на отхожих про- мыслах’ [СПГ 1: 327], производные от него, как правило, обладают отрицательной оценочно-стью: ‘человек, не имеющий постоянного места жительства и заработка’ [АС 1: 344], ‘нарушитель общественного порядка, хулиган’ [СПГ 1: 327], ‘непослушный, проказливый ребенок’ [КСРГСПК]. Похожее значение слово имеет в говорах белорусского языка: зiмагор ‘человек без семьи’ [ЧТС: 72]. От слова зимогор образуется зимогорка ‘женщина, ушедшая от мужа’ (Зимогор бросил, мо[л], меня. Не стала зимогорка жить со мной. Гляди, мол, зимогоры-те разошлись (Велгур Краснов.) [КСРГСПК]).
Большое количество лексем со значением ‘разведенный мужчина’, ‘разведенная женщина’, ‘мужчина, ушедший из семьи’, ‘жена, бросившая мужа’ свидетельствует о распространенности ситуации развода в XX в., однако негативная коннотация большинства языковых единиц говорит о неодобрительном отношении диалектоно-сителей к этому явлению. Об этом пишут и авторы монографии «Русские», характеризуя семейный уклад в 60–90-х гг. XX в.: «Расторжение браков стало фактически беспрепятственным. Последние десятилетия отмечаются увеличением числа разводов… Несмотря на это, отношение к разводом в сельских местностях в целом отрицательное, а общественное мнение осуждает разведенных людей, главным образом виновников разводов, разрушивших семейную жизнь» [Русские 2005: 439].
В некоторых случаях (отсутствие сыновей в семье) женившийся мужчина переходил жить в дом жены, такую ситуацию обозначают фразеологизмы брать в дом, в дворники брать, дома (на дому) жениться, на себя взять, уйти на чужой пол. В пермских говорах фиксируется большое количество лексем со значением ‘муж, вошедший в дом жены’; чаще всего они мотивированы словами двор и дом: дворо′вик (Мужик из той деревни в дворовики сюды пришел; дворо-вик называли мужика, ежели к бабе в дом пришел (Тюлькино Сол.); Уйдёт в дом к жене, дак дворовик, не зазорно ето было (Березовка Ус.) [СПГ 1: 203]); дворо′вой (Дворовик-от, мужика так зовут: он бабу нашёл и в дом вошёл (В.Мошево Сол.) [там же]); до′мник (Бывало и невеста жениха сватала, как в невестин дом идти, его ещё домник называли, парня-то (Пож Юрл.) [СРГКПО: 89]); домово′й (Домовой. Муж принят в дом своей невесты. Некоторы свадьба, невеста за ём ездит, некоторы так приходят. Наоборот делатся (Тиуново Гайн.) [КСРГСПК]); домово′д (Отец-от был домовод, в дом пришёл к жене-то (Таволожанка Юрл.) [СРГКПО: 89]). Некоторые слова с этим значе- нием являются производными от глаголов привести, прийти, принять: приведе′нник (У меня отец-от со Шшугора был, приведенец (Акчим Краснов.) [АС 4: 126]); приведе′нец (Ейный муж со Щугора был, приведёной. Он приведенник. Он хороший был (Акчим Краснов.) [там же]); при-шла′к (Муж-от у меня пришлак был. Пришлак-от? Из другой деревни в дом вошёл, вот и при-шлак. Пришлак-от из другой деревни версты за две пришёл (Володино Сол.) [СПГ 2: 223]); при-ма′к (Колька, старшей-то моей муж, примак у нас (Усть-Гаревая Добр.) [там же: 209]).
В пермских говорах также зафиксирована лексема с этим значением, образованная путем метафорического переноса, – воробе′й ( Если не в свой дом выйдет мужик, воробьём зовут (Пен-тюрино Бер.) [СРГЮП 1: 135]). Сравнение мужчины, перешедшего жить в дом жены, с воробьем подчеркивает, что такой мужчина не хозяин в доме, именно поэтому в «Словаре русских говоров Южного Прикамья» слово имеет помету «ироническое». А.В. Гура в статье «Брак» в словаре «Славянские древности» отмечает, что у всех славян встречался матрилокальный брак, однако положение зятя в семье чаще всего было зависимым [Гура 1995б: 246].
Небольшое количество языковых единиц называет мужчину, женившегося во второй раз (или несколько раз), – двоеже′нец ( Замуж-то вышла я за двоеженца. Все мне судьбу несчастную пророчили, а мужик-то хороший оказался (Пантюха Част.) [СПГ 1: 202]); бабий переводник ( Переводит баб. Бабний переводник. Помрё жена – берё одну, третью. Или когда разойдутся (Акчим Краснов.) [АС 4: 26]); многожённый ( Если много раз женится, его многожённым звали (Пянтег Черд.) [КСРГСПК]). Женщину, находящуюся во втором браке, называют наложницей ( Котора баба второй у мужика была, дак её наложницей звали (Кузнецова Сол.) [СПГ 1: 556]). Эти лексемы характеризуют вступивших в брак вторично после смерти первого супруга или развода. Поскольку не всегда возможно венчание во втором браке, постольку слова этой группы частично совпадают с наименованиями людей, чьи отношения не скреплены официальным браком.
Слова со значением ‘вдовец’ и ‘вдова’ в пермских говорах являются однокоренными к литературным и отличаются только суффиксами: вдо-ви′н ( На второй раз я вышла за вдовина (Б. Бу-кор Чайк.) [СРГЮП 1:101]), вдови′ца ( Жила вдовицей весь век (Вильгорт Черд.) [СРГСПК 1: 195]), вдо′вка ( Семеновна-то у нас рано вдовкой стала (Б.Букор Чайк.) [СРГЮП 1:101]), вдову′ха ( Ох, и робили вдовухи, тяжело было (Вильгорт
Черд.) [СРГСПК 1: 195]), вдову′шка ( У меня мужа нет, так я вдовушка (Касиб Солик.) [там же]).
Таким образом, языковые единицы, входящие в тематическую группу «Наименования человека по отношению к браку», в большинстве своем включаются в достаточно распространенные синонимические ряды. Часть слов этой тематической группы являются нейтральными: так, обычно не имеют экспрессивной окраски единицы со значениями ‘женатый мужчина’, ‘замужняя женщина’, ‘вдовец’, ‘вдова’. Некоторые подгруппы, например, ‘холостяк’, ‘старая дева’, ‘женщина, не состоящая в церковном (официальном) браке’, ‘разведенная женщина’, ‘разведенный мужчина’, чаще всего содержат эмоционально окрашенную лексику. Наименования человека по наличию / отсутствию брачных обязательств в пермских говорах во многом отражают те изменения, которые происходили в традиционном семье на протяжении XX в. Так, достаточно большое количество лексем, называющих женщин, не состоящих в церковном браке, разведенных мужчин и женщин, свидетельствует о распространении гражданского брака, а также об увеличении количества разводов в этот период.
Список литературы Наименования человека по отношению к браку в пермских говорах
- АС -Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (Акчимский словарь). Пермь, 1984-2003. Вып.1-5.
- КСРГСПК -Картотека словаря русских говоров севера Пермского края.
- СПГ -Словарь пермских говоров. Вып.1-2/под ред. А.Н.Борисовой и К.Н. Прокошевой. Пермь, 2000-2002.
- СРГСПК -Словарь русских говоров севера Пермского края. Пермь, 2011. Вып. 1. А-В. 364 с.
- СРГКПО -Словарь русских говоров Коми-Пермяцкого округа. Пермь: ПОНИЦАА, 2006. 272 с.
- СРГЮП -Словарь русских говоров Южного Прикамья. Вып.1-3/И.А.Подюков (науч.ред.), С.М.Поздеева, Е.Н.Свалова, С.В.Хоробрых, А.В.Черных; Перм. гос. пед. ун-т. Пермь, 2010-2012.
- ФСПГ -Прокошева К.Н. Фразеологический словарь пермских говоров. Пермь: Изд-во Перм. гос. пед. ун-та, 2002. 432 с.
- Алексеенко М.А., Литвинникова О.И., Белоусова Т.П. Человек в русской диалектной фразеологии: словарь. М: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2004. 238 с.
- Бахматов А.А., Голева Т.Г, Подюков И.А., Черных А.В. Русские в Коми-Пермяцком округе: обрядность и фольклор. Материалы и исследования. Пермь: Изд-во «ОТиДО», 2008. 502 с.
- Брак и семья у севернорусского сельского населения//Русский Север: этническая история и народная культура. XII-XX века. М.: Наука, 2004. 848 с.
- Гура А.В. Безбрачие//Славянские древности. Этнолингвистический словарь/под ред. Н.И.Толстого. М.: Междунар. отн., 1995. Вып.1. С.147-148.
- Гура А.В. Брак.//Славянские древности. Этнолингвистический словарь/под ред. Н.И.Толстого. М.: Междунар. отн., 1995. Вып.1. С.244-250.
- Категория родства в языке и культуре/отв. ред. С.М. Толстая. М.: Индрик, 2009. 312 с.
- Качинская И.Б. Термины родства и языковая картина мира (по материалам архангельских говоров): дис. … канд. филол. наук. М., 2011.
- Коконова А.Б. Рождение и смерть в пространстве диалекта: автореф. дис. канд. филол. наук. М., 2011. 24 с.
- Куединская свадьба: Свадебные обряды русских Куединского района Пермской области в конце XIX -первой половине XX в./сост. А.В.Черных. Пермь, 2001. 140 с.
- Подюков И.А., Черных А.В., Хоробрых С.В. Земля Соликамская. Традиционная культура, обрядность и фольклор русских Соликамского района. Пермь: Перм. кн. изд-во, 2006. 224 с.
- Полякова Е.Н. Слова с семантикой ‘жена', ‘женщина' в пермских памятниках XVI -начала XVIII века//Полякова Е.Н. Региональная лексикология и ономастика: материалы для самостоятельной работы. Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2006. С.89-92.
- Русские/отв. ред. В.А.Александров, И.В.Власова, Н.С.Полищук. М.: Наука, 2005. 828 с.
- Славянские древности. Этнолингвистический словарь/под ред. Н.И.Толстого. М.: Междунар. отн., 1995. Т. 1.
- СРНГ -Словарь русских народных говоров/под ред. Ф.П.Филина, Ф.П.Сороколетова. СПб., 1966-2011. Вып.1-44 (издание продолжается).
- СРФ -Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник. СПб.: Фолио-Пресс, 1998. 704 с.
- Сумникова Н.И. Термины родства и свойства в современном русском языке//Русская речь. 1969. №2. С.117-122.
- Трубачев О.Н. К этимологии некоторых древнейших славянских терминов родства//Вопросы языкознания. 1957. №2. С.86-95.
- Усачева В.В. Капуста//Славянские древности. Этнолингвистический словарь/под ред. Н.И.Толстого. М.: Междунар. отн., 1995. Вып.2. С.457-461.
- Федорова К.А. Термины родства в русских говорах на территории бывшей Чердынской земли//Вопросы фонетики, словообразования, лексики русского языка и методики его преподавания: труды 4-й зон. конф. кафедр русского языка вузов Урала. Пермь, 1964. Вып. 1. С.85-92.
- Филин Ф.П. О терминах родства и родственных отношениях в древнерусском литературном языке//Язык и мышление. XI. M.; Л., 1948. С.329-346.
- ЧТС -Чалавек: тэматычны слоўнiк/навук. рэд. Л.П.Кунцэвiч, А.А.Крывiцкi. Мiнск: Беларуская навука, 2006. 573 с.
- Шарапова И.М. Терминология родства в рязанских говорах: автореф. дис. … канд. филол. наук. М.: Моск. гос. пед. ин-т им. B.И. Ленина, 1977. 15 с.
- ЭССТСП -Подюков И.А., Хоробрых С.В., Антипов Д.А. Этнолингвистический словарь свадебной терминологии северного Прикамья. Усолье; Соликамск; Березники; Пермь: Перм. кн. изд-во, 2004. 360 с.
- ЭССЯ -Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд/ред. О.Н.Трубачев. М., 1974-2008. Вып.1-34 (издание продолжается).
- Славянские древности. Этнолингвистический словарь/под ред. Н.И.Толстого. М.: Междунар. отн., 1999. Т. 2.
- Славянские древности. Этнолингвистический словарь/под ред. Н.И.Толстого. М.: Междунар. отн., 2004. Т. 3.
- Славянские древности. Этнолингвистический словарь/под ред. Н.И.Толстого. М.: Междунар. отн., 2009. Т. 4.