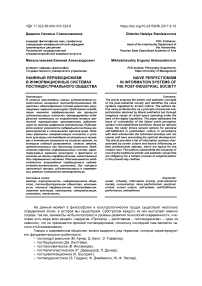Наивный перфекционизм в информационных системах постиндустриального общества
Автор: Диденко Наталья Станиславовна, Михальчевский Евгений Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье произведены анализ художественно-эстетических концепций постиндустриального общества и идентификация систем ценностей, регулируемых экранной культурой. Предложено определение наивного перфекционизма как принципа субъективизации личности, декларируемого либеральной эстетикой, но посредством мнимых ценностей виртуального пространства, работающего по законам цифрового капитализма. Поднимается вопрос уязвимости либеральной системы мировосприятия в сложившейся картине мира. Показаны варианты самореализации личности в условиях культуры постмодерна на актуальных примерах в контексте понимания не столько законов, по которым индивид развивается, сколько законов, препятствующих его духовному развитию. Представлен перечень информационных систем, характеризуемых экранной культурой, и факторов их влияния на каноны перфекционизма, свойственные для современного человека. Обосновывается необходимость возрождения традиционных художественно-эстетических ценностей, без которых целостный процесс субъективизации в современных реалиях становится маловероятным.
Аватар, виртуальность, информационное общество, постиндустриальное общество, консюмеризм, наивный перфекционизм, постмодернизм, экранная культура, самооценка, самореализация, спектакль, телесность
Короткий адрес: https://sciup.org/14941375
IDR: 14941375 | УДК: 17.023.36:004:316.324.8 | DOI: 10.24158/fik.2017.8.10
Текст научной статьи Наивный перфекционизм в информационных системах постиндустриального общества
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
На данный момент в философских и культурологических трудах существует несколько определений эпохи, в которой мы существуем. Субстратом каждого из них выступает именно социум, так как, какими бы ни были прогресс и уровень развития технологий современности, «человек есть мера всех вещей» (нарратив «Протагор – релятивизм – постмодернизм» – один из немногих, что не пресекается иронией постмодернизма, поскольку последний сам является частью этой взаимосвязи).
Говоря о современном обществе, можно выделить ряд терминов, которые характеризуют его фундаментальные особенности:
– постиндустриальное (М. Арчер, Д. Белл, Э. Тоффлер),
– постбуржуазное (Дж. Лихтгейм),
– постэкономическое (В. Иноземцев),
– посткапиталистическое (Р. Дарендорф, П. Друкер),
– постцивилизационное (К. Боулдинг),
-
– постмодернистское (Э. Гидденс, Ф. Джеймисон, Ж.-Ф. Лиотар),
-
– «информационное» (К. Кояма, Ф. Махлуп, Ф. Уэбстер, Е. Масуда).
Японский ученый К. Кояма считает наиболее адекватным определение «информационный», поскольку информация становится не только ключевым фактором производства, но и одним из основных агентов социально-политических изменений в обществе.
Опыт двух мировых войн, холодной войны, а в дальнейшем техническое развитие средств массовой информации и коммуникаций определили, что общественные отношения, экономика и культура могут регулироваться в контексте не только геополитики и онтологических оснований капитализма, но и цифрового капитализма, который рождается в виртуальном пространстве.
Виртуальное пространство на основе интернета и визуального искусства неосязаемо физически, потому главным продуктом массового общества постиндустриализации становится информация как главный объект потребления и инструмент управления массами.
В работе о массовом обществе А.В. Захаров уточняет одну существенную деталь: «Постиндустриализм не отменяет сущностных признаков массового общества, но он изменяет форму, в которой массовое общество существует сегодня: “управляемая масса” сменяется “контролируемой массой”» [1, с. 13]. И действительно, опыт радио, а затем телевидения показал, что масса ликвидна и ей можно легко управлять посредством техник агитации, пропаганды, антипропаганды. Обращаясь же к явлению интернета, мы сталкиваемся с тотальным контролем. Прежде всего это проявляется в сфере спроса и предложения. История посещения сайтов, определяющая интересы, дает рекламным компаниям возможность точно определять сферу и уровень потребностей человека в обмен на то, что он бесплатно пользуется интернет-ресурсами. Мнения общепризнанных авторитетных источников во многом могут влиять на формирование личной позиции, либо вовсе определять за человека, какую точку зрения он примет.
Во всей этой рекламной пропаганде, «информационных войнах», цифровой эстетике рождается главный феномен постиндустриального общества – культура постмодерна, «чья функция состоит в соотнесении появления в культуре новых формальных особенностей с возникновением нового типа социальной жизни и нового экономического порядка, того, что часто эвфемистически называют обществом модернизации, постиндустриальным или потребительским обществом, медийным обществом или обществом спектакля, транснациональным капитализмом» [2, с. 290].
Такая характеристика лучше всего определяет информационное общество и динамику его развития посредством цифровых технологий. Наиболее важным при рассмотрении социума в контексте постмодернистской идеологии остается вопрос отдельного индивида, его нравственных основ и моральных ориентиров – в эпоху смещения нарративов, изменения типа знания и роли информации [3, с. 46] – основного орудия постмодерна.
С точки зрения социологического анализа доминирующей политической системой современности является либерализм, поскольку культура Америки в наибольшей степени определяет динамику развития интернета, производит массовую продукцию и, как следствие, рождает культурный спрос, выступая ориентиром для других стран в виде художественных поисков, визуальных технологий и субкультурных ориентаций – в кинематографе, музыке, компьютерных играх и других продуктах современного искусства. Этот опыт подтверждается популярностью американского кинематографа и мифотворчества (комиксы), таких музыкальных направлений, как хип-хоп и электроника, востребованностью фастфуда и напитков «Кока-Кола» и «Пепси» в кулинарной промышленности, телевизионных жанров ситком, реалити и стендап.
Либерализм в социокультурной сфере долгое время занимался вопросами поднятия самооценки, чем примечательна культура США [4]. Помимо прочего, либеральная демократия регулирует механизмы глобализации, а в совокупности с виртуальным пространством интернета представляет интерактивный мир возможностей, альтернативных реальностей, личностей – аватаров и рождает новое направление капитализма – цифровой капитализм. Процесс потребления продукции цифрового капитализма Ж. Бодрийяр обозначил бы «семиургией» – потреблением чистого знака, бренда [5].
Поскольку декларативной основой либерализма выступают гуманизм, удовлетворение личностных потребностей и свобод, индивидуализация и саморазвитие, то вопрос лишь в том, какие возможности для этого дают постиндустриальная эпоха и культура постмодерна и действительно ли они с этой задачей справляются.
Ответ кроется в симбиозе роста самоутверждения и возможностей, которые дают современное виртуальное пространство и другие средства массовой информации. Этот социокультурный процесс можно определить как наивный перфекционизм – совершенствование как самоцель посредством технологий, основывающихся на консюмеризме и мнимых ценностях экранной культуры, ведь по сути «виртуальность постмодерна – это возможность, полностью лишенная онтологии, это возможность ничто, ставшая действительностью в особых вероятностных условиях» [6, с. 268].
На этом «ничто» сегодня развиваются стиль жизни, тенденции моды, сфера потребностей, альтернативные реальности. Например, «гедонистическая эстетика досуга с ее повышенным интересом к моде, быту, кулинарии, сфере интимных отношений и повседневной жизни, возникшая в результате конвергенции высокой и потребительской культуры, характеризуется не столько утилитарным, сколько символическим характером потребительских ценностей, удовлетворяющих потребность в радости и удовольствии как через обретение вещей, так и через сам обмен знаково-эстетической информацией» [7, с. 68].
Э.Дж. Пирсон в постмодернистском романе «Страна коров» наглядно демонстрирует в диалоге старшего поколения обыденность провинциальных ценностей путем систематически повторяющегося элемента дискурса: в обсуждении того или иного человека фоном звучит, например, марка его автомобиля. Этот нюанс всегда создает у реципиента точное представление о лице, которое выступает объектом обсуждения. Восстанавливают образ в памяти не фамилия, имя или, скажем, социокультурные достижения, но марка и модель автомобиля – материальная собственность, актив, определяющий капитал и вкус сквозь призму субъективного восприятия эстетических потребностей. И здесь речь идет о поколении, воспитанном в 50–60-х гг. XX в., образ жизни которых во многом определялся рекламой, американской мечтой и культурными тенденциями, продиктованными радио- и телевещанием.
В современности ситуация обостряется: маркетинг, реклама и кумиры молодого поколения определяют критерий оценки индивида в социуме. Современная культура веганства и бодибилдинга диктуется новым стилем жизни, трансформируется за счет смены культурных ориентиров глобализации и расширяется за счет рекламного воздействия. Таким образом, телесность снова обретает физические формы, каноны которой изначально были разрушены философами и художниками – деятелями постмодернистских течений (Р. Барт, А. Арто, А. Жарри, М. Дюшан, Дж. Поллок и др.).
Когда умирает идеология, первенство занимают экономика и способность самоутверждения не навыками, а собственностью. Критерий ума определяется не интеллектуальными способностями индивида, но коэффициентом приобретения материальных благ с наименьшими затратами ресурсов.
В эпоху индустриализации существовали классы – объединения людей по роду активной деятельности или общей идеологии, где самоутверждение достигалось посредством конкретных умственных или физических достижений.
Постиндустриализация упразднила классы и представила массу: «Вместо общественных сфер, поддерживающих дебаты и дискуссии с использованием доказательств, у нас есть национальное государство развлечений с его многочисленными общественными и частными сферами, инфантилизирующее практически все, к чему оно прикасается» [8, с. 160]. Теперь индивид выделяется материальным богатством или, например, популярностью .
История феноменальной популярности медийной личности Даниэлы Катценбергер наглядно демонстрирует хаотичность общественных идеалов и квинтэссенцию блефа в процессе производства медиа и его потребления. Эмигрантка, которая пробилась в империю Playboy при своей неестественной, искусственной внешности, производила впечатление посредственного, «естественного» в поведении человека. «Будь хитрой – веди себя глупо» – основа ее поведения в медиа и, как следствие, ее популярности [9, с. 165].
В пространстве российских медиа можно встретить массу аналогичных примеров успеха. Видеосервис YouTube популяризовал новый вид деятельности – блогерство. Любой желающий, готовый показать себя и способный рассуждать на интересные массам темы, может обеспечивать свою жизнедеятельность, не выходя из дома. Зачастую чем более доступен язык, чем более провокационны и юмористичны высказывания и чем точнее блогер определяет тенденции популярности, тем выше фактор спроса на него. Наступает эра нарциссизма. «Когда социум вступает в юмористическую фазу, возникает неонарциссизм, последнее эстетическое убежище мира, утратившего свою прежнюю систему ценностей. За пародийным обесцениванием социума следует литургическая переоценка нашего “я”: более того, юмористическое становление играет важную роль в возникновении нарциссизма» [10, с. 246–247].
Другой культурный феномен – социальные сети (Facebook, Twitter, Instagram), которые еще в большей степени популяризируют личностей, формирующих «общество спектакля». В отдельных случаях фактор самоутверждения и перфекционизма проявляется в популярности, формируемой количеством подписчиков. Метод работает по схеме стадного чувства – зачастую не имеет значения содержимое страницы аватара, важнее то, сколько человек уже на него подписано. Существуют сферы бизнеса, которые увеличивают это количество за отдельную плату, иногда выдавая за подписчиков страницы несуществующих людей, воплощая таким образом сюжет «Мертвых душ» Гоголя.
Другой фактор наивного перфекционизма – успехи в виртуальных реальностях. «То, что вчерашний пассивный зритель сегодня желает сам манипулировать действиями любимых персонажей (конечно, в рамках их обычной среды обитания и существующих вариантов поступков), подтверждается тем успехом, который приобрели за последние годы компьютерные игры – версии массовой кинопродукции» [11, с. 489].
Совместные интернет-игры (жанр MMORPG), воплощающие собой интерактивный текст [12], позволяют развивать своих аватаров без строгих ограничений и особенно привлекают лиц, которые в реальной жизни испытывают проблемы в общении, досуге или сатисфакции определенных потребностей. Виртуальность позволяет реализовать те вероятности, что недопустимы или затруднительны в действительности.
На основе таких игр могут формироваться субкультуры. Стиль общения представителей этих субкультур основывается не на прямом восприятии индивида, а через призму его аватара. В рамках виртуальных субкультур личность человека трансформируется в личность виртуальную таким образом, что с каждой конкретной субкультурой обычно бывает связана его некоторая субличность [13, с. 154].
Таким образом, примеры субъективизации личности в контексте цифрового капитализма экранной культуры утверждают сегодня феномен «общества спектакля», провозглашенного Ги Дебором: «…непрерывная опиумная война, которая ведется с целью уничтожить даже в мыслях людей различия между товарами и жизненными ценностями, между развлечениями и выживанием» [14, с. 40].
Либеральная концепция служит орудием формирования личности, но в современных обстоятельствах – исключительно на фоне картины мира, сложившейся в условиях постиндустриализации, информационном пространстве экранной культуры, она скорее угнетает процесс субъективизации личности, нежели провоцирует его рост. Для изменения ситуации необходимы трансформации, направленные на окружающую действительность, а не на виртуальную мнимость. Сам же процесс трансформации должен базироваться на традиционных художественноэстетических ценностях, аккумулирующих в себе как онтологические, так и аксиологические основания культуры и бытия человека.
Ссылки:
-
1. Захаров А.В. Массовое общество и культура в России: социально-типологический анализ // Вопросы философии. 2003. № 9. С. 3–16.
-
2. Джеймисон Ф. Марксизм и интерпретация культуры : пер. с англ. М. ; Екатеринбург, 2014. 414 с.
-
3. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / пер. с фр. Н.А. Шматко. М. ; СПб., 1998. 160 c. (Серия «Gallicinium»).
-
4. Singal J. How the Self-Esteem Craze Took over America – And Why the Hype was Irresistible [Электронный ресурс] // Science of Us. 2017. 30 May. URL: http://nymag.com/scienceofus/2017/05/self-esteem-grit-do-they-really-help.html (дата обращения: 19.07.2017).
-
5. Baudrillard J. La soci e t e de consommation. P., 1970.
-
6. Дугин А. Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли. М., 2009. 744 с.
-
7. Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2005. 352 с.
-
8. Жиру А.А. Зомби-политика и культура в эпоху казино-капитализма : пер. с англ. Харьков, 2015. 284 с.
-
9. Хёфер М. Может быть, капитализм не хочет, чтобы мы были счастливыми? / пер. с нем. яз. А. Обломская. СПб.,
2015. 208 с.
-
10. Липовецки Ж. Эра пустоты. Очерки современного индивидуализма. СПб., 2001. 338 с.
-
11. Вдовенко И.В. Театр и новые технологии: интерактивность, телесность, текст // Экранная культура. Теоретические проблемы : сб. ст. / отв. ред. К.Э. Разлогов. СПб., 2012. С. 488–506.
-
12. Ерохин С.В. Цифровое компьютерное искусство. СПб., 2011. 188 с. (Цифровое искусство).
-
13. Там же. С. 154.
-
14. Дебор Г. Общество спектакля : сборник. М., 2014. 232 с.
Список литературы Наивный перфекционизм в информационных системах постиндустриального общества
- Захаров А.В. Массовое общество и культура в России: социально-типологический анализ//Вопросы философии. 2003. № 9. С. 3-16.
- Джеймисон Ф. Марксизм и интерпретация культуры: пер. с англ. М.; Екатеринбург, 2014. 414 с.
- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна/пер. с фр. Н.А. Шматко. М.; СПб., 1998. 160 c. (Серия «Gallicinium»).
- Singal J. How the Self-Esteem Craze Took over America -And Why the Hype was Irresistible //Science of Us. 2017. 30 May. URL: http://nymag.com/scienceofus/2017/05/self-esteem-grit-do-they-really-help.html (дата обращения: 19.07.2017).
- Baudrillard J. La société de consommation. P., 1970.
- Дугин А. Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли. М., 2009. 744 с.
- Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2005. 352 с.
- Жиру А.А. Зомби-политика и культура в эпоху казино-капитализма: пер. с англ. Харьков, 2015. 284 с.
- Хёфер М. Может быть, капитализм не хочет, чтобы мы были счастливыми?/пер. с нем. яз. А. Обломская. СПб., 2015. 208 с.
- Липовецки Ж. Эра пустоты. Очерки современного индивидуализма. СПб., 2001. 338 с.
- Вдовенко И.В. Театр и новые технологии: интерактивность, телесность, текст//Экранная культура. Теоретические проблемы: сб. ст./отв. ред. К.Э. Разлогов. СПб., 2012. С. 488-506.
- Ерохин С.В. Цифровое компьютерное искусство. СПб., 2011. 188 с. (Цифровое искусство).
- Дебор Г. Общество спектакля: сборник. М., 2014. 232 с.