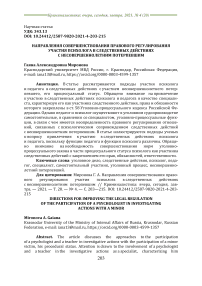Направления совершенствования правового регулирования участия психолога в следственных действиях с несовершеннолетним потерпевшим
Автор: Миронова Гаяна Александровна
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 4 (20), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются подходы участия психолога и педагога в следственных действиях с участием несовершеннолетнего потерпевшего, его процессуальный статус. Обращено внимание на привлечение к участию в следственных действиях психолога и педагога в качестве специалиста, характеризуя его как участника следственного действия, права и обязанности которого закреплены в ст. 58 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Однако педагог и психолог осуществляют в уголовном судопроизводстве самостоятельные, в сравнении со специалистом, уголовно-процессуальные функции, в связи с чем имеется неопределенность правового регулирования отношений, связанных с психологическим сопровождением следственных действий с несовершеннолетним потерпевшим. В статье иллюстрируются подходы ученых к вопросу привлечения к участию в следственных действиях психолога и педагога, поскольку функции педагога и функции психолога различны. Обращено внимание на необходимость совершенствования норм уголовно-процессуального закона в части процессуального статуса психолога как участника следственных действий с закреплением его прав, обязанностей, ответственности.
Уголовное дело, следственные действия, психолог, педагог, специалист, самостоятельный участник, уголовный процесс, несовершеннолетний потерпевший
Короткий адрес: https://sciup.org/143177999
IDR: 143177999 | УДК: 343.13 | DOI: 10.24412/2587-9820-2021-4-203-215
Текст научной статьи Направления совершенствования правового регулирования участия психолога в следственных действиях с несовершеннолетним потерпевшим
Краснодарский университет МВД России, г. Краснодар, Российская Федерация, e-mail: ,
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Krasnodar, Russian Federation, e-mail: ,
Ч. 1 и 4 ст. 191 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) низко эффективны, участие психолога в следственных действиях с несовершеннолетними потерпевшими формально, психолог часто подменяется педагогом (с 1 января 2015 г. это запрещено законом по уголовным делам о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), реальной психологической помощи в ходе уголовного процесса несовершеннолетние и малолетние жертвы преступлений не получают. Вопреки ожиданиям законодателя, связывавшего недавнее обновление ст. 191 УПК РФ с оптимизацией процесса психологического взаимодействия следователя с несовершеннолетним при решении задачи получения от него полных, развернутых показаний в ходе одного допроса и исключения вторичной травматизации его психики1, принципиальных изменений в организации и тактике допроса и других следственных действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего за последние годы, судя по имеющимся в юридической печати и находящимся в открытом доступе публикациям, не наступило.
Одна из объективных причин сложившегося положения — неопределенность правового регулирования отношений, связанных с психологическим сопровождением следственных действий с несовершеннолетним потерпевшим. Предписания ч. 1 и 4 ст. 191 УПК РФ, в силу неконкретности и лаконичности, нуждаются в более развернутом изложении. К такому выводу приходят многие исследователи психологических аспектов расследования преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.
В теории уголовного процесса представлено несколько авторских вариантов модификации нормативной основы участия педагога и психолога в следственных действиях с несовершеннолетними, базирующихся на двух принципиально отличающихся моделях: 1) педагог и психолог привлекаются к участию в процессуальных действиях в качестве специалистов, права и обязанности которых регламентируются ст. 58 УПК РФ; 2) педагог и психолог — самостоятельные участники уголовного процесса, выполняющие другие нежели специалист, процессуальные функции. Рассмотрим их.
Педагог и психолог привлекаются к участию в процессуальных действиях в качестве специалистов, права и обязанности которых регламентируются ст. 58 УПК РФ.
При распространенности в уголовно-процессуальной теории мнения о том, что педагог и психолог привлекаются к участию в следственных действиях с несовершеннолетними в статусе специалиста, приводимая в ее обоснование аргументация небезупречна. Характе- ризуя специалиста как участника следственного действия, С. Б. Россинский отмечает, что похожие функции выполняют психолог и педагог, которых можно отнести к особым видам специалистов. Понимая, что понятие «особый вид специалиста» — сугубо теоретическая конструкция, оно все же косвенно указывает на то, что педагог и психолог «не совсем» специалисты в той трактовке, которая дана в ст. 58 УПК РФ. [1, с. 209—210], существует и научная версия, согласно которой статус педагога и психолога выходит за пределы ст. 58 УПК РФ, а закон не рассматривает их как специали-стов1 [2, с. 301—305; 3, с. 86—90]. Автор статьи придерживается указанного исследовательского направления и приводит в его поддержку следующие аргументы:
-
1) в УПК РФ сформулированы специальные нормы, посвященные педагогу и психологу, что отдаляет их от специалиста;
-
2) понятие «педагог» отдельно раскрывается в п. 62 ст. 5 УПК РФ, а в процессуальной литературе обосновано предложение о включении в ст. 5 УПК РФ понятия «психолог»;
-
3) словосочетания «специалист-педагог» или «специалист-психолог» не имеют законодательного закрепления;
-
4) в ст. 191 и 425 УПК РФ нет отсылок к ст. 58, 168 УПК РФ о том, что педагог и психолог пользуются правами и несут обязанности, преду-
- смотренные ст. 58 УПК РФ, привлекаются к участию в следственном действии в порядке, определенном ст. 168 УПК РФ;
-
5) обязательное привлечение психолога к проведению следственных действий с несовершеннолетним потерпевшим по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности продиктовано необходимостью достижения специальных целей (исключение вторичной травматизации психики жертвы сексуального насилия), отличающихся от «стандартных» целей, реализации которых содействует специалист — содействие в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применение технических средств в исследовании материалов уголовного дела, разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную деятельность.
С учетом изложенного можно сделать вывод: педагог и психолог осуществляют в уголовном судопроизводстве самостоятельные, в сравнении со специалистом, уголовно-процессуальные функции. Они представлены в УПК РФ как отдельные участники уголовного процесса, правовой статус которых определен лишь контурно.
В контексте данного вывода права и обязанности педагога и психолога следует закрепить в законе исходя из тех целей, которые ставит перед ними законодатель. Эти цели также должны быть нормативно отражены. Механическое распространение правового статуса специалиста (ст. 58 УПК РФ) на педагога и психолога не имеет под собой объективных оснований, что не исключает совпадения некоторых общих прав (например, знакомиться с протоколом следственного дей- ствия и делать замечания, подлежащие занесению в протокол) и обязанностей (являться по вызовам следователя, не разглашать данные предварительного расследования) специалиста, педагога и психолога.
Педагог и психолог — самостоятельные участники уголовного процесса, выполняющие отличные от специалиста процессуальные функции.
С точки зрения З. А. Балтыковой, педагог или психолог должен иметь реальную возможность оградить психику малолетнего свидетеля и потерпевшего от негативного внешнего влияния. «К тому же, — пишет автор, — когда педагог или психолог впервые видит малолетнего свидетеля или потерпевшего на допросе, он не знает его психологического состояния. В связи этим предлагается расширить права педагога или психолога, предоставив им реальную возможность информировать следователя, законного представителя и других лиц о состоянии малолетнего свидетеля или потерпевшего, необходимости в связи с психическим состоянием ребенка приостановить допрос или изменить характер его проведения и право знакомиться с психическими и психологическими характеристиками малолетнего до начала допроса» [4, с. 47—48].
Поддерживая в принципе стремление автора придать педагогу и психологу более определенный, «рабочий» процессуальный статус путем предоставления им дополнительных прав, укажем на главные, с точки зрения автора, недостатки разработанной З. А. Балтыковой теоретической модели части 6 статьи 191 УПК РФ.
Автор отождествляет педагога и психолога как участников уголов- ного процесса с одинаковым объемом процессуальных прав и обязанностей, хотя и признает, что они являются носителями разных отраслей знаний: педагогики и психологии. Данная позиция внутренне противоречива и нуждается в корректировке.
Действительно, если педагог и психолог как представители разных областей знаний объективно не могут полноценно «подменять» друг друга при оказании содействия следователю в проведении следственных действий с несовершеннолетним, тогда концепция «взаимозаменямости» в уголовном процессе педагога психологом (и наоборот, психолога педагогом), получившая частичное закрепление в законе, несостоятельна, что отчетливо видно на следующем примере.
Согласно ч. 4 ст. 191 УПК РФ, при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога обязательно. Предположим, что обеспечить участие психолога в допросе малолетнего потерпевшего от сексуального насилия не представилось возможным и вместо него присутствовал педагог. Будут ли показания, полученные с прямым нарушением требований ч. 4 ст. 191 УПК РФ, признаны недопустимыми? С учетом содержания ст. 75 УПК РФ ответ на этот вопрос должен быть утвердительным1. Иначе положения ч. 4 ст. 191 УПК РФ станут обыкновенной юридической фикцией. Вместе с тем они призваны служить одной из гарантий формирования достоверных показаний несовершеннолетних потерпевших, относящихся к группе участников уголовного процесса с ограниченными возможностями. Применительно к анализируемой ситуации в литературе правильно акцентируется внимание на том, что не все симптомы и следствия психических недостатков, о которых речь идет в ст. 191 и 425 УПК РФ, «могут быть диагностированы, купированы и преодолены педагогом. В таких случаях он не способен оказать помощь в получении от несовершеннолетнего достоверных пояснений» [5, с. 18—19].
В контексте изложенного отсутствие указания на психолога в ч. 1 ст. 280 УПК РФ, регулирующей особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля в судебном заседании, — очередная лакуна уголовно-процессуального законодательства.
Таким образом, при определении возможности, форм и пределов использования знаний (достижений) педагогики и психологии в уголовном процессе решающее значение отводится объективному фактору: педагог и психолог имеют разные профессии, специальности и квалификацию. По этому поводу М. А. Шувалова правильно замечает (орфография источника сохранена): «Функции педагога и психолога различны, как и их знания психологические и педагогические.... Различия между двумя процессуальными фигурами приводят к мнению о необходимости законодательного закрепления их процессуальных статусов. Поэтому, мы делаем вывод, что педагог и психолог не являются вза-имозаменимыми процессуальными фигурами в уголовном судопроизводстве, из чего следует необходимость использования дифференцированного подхода к их выбору» [6, с. 45, с. 48].
Еще более категоричны М. В. Галдин и К. А. Костенко, утверждающие, что «педагог и психолог обладают разными познаниями и различным уровнем подготовки, каждый из них должен решать задачи, относящиеся к сфере его профессиональной деятельности, и поэтому они не могут считаться взаимозаменяемыми» [5, с. 20].
Сторонником разграничения процессуальных функций педагога и психолога является А. Н. Бычков, полагающий, что педагог и психолог не являются тождественными процессуальными фигурами в связи с тем, что цель их участия различна. При этом целесообразность приглашения педагога вызывается необходимостью компенсации возрастной недостаточности в психическом и психологическом развитии несовершеннолетнего. В свою очередь, участие психолога А. Н. Бычков видит в «необходимости выявления симуляции определенных отклонений»
несовершеннолетнего [7, с. 8].
В правовой литературе
Э. Б. Мельниковой еще 20 лет назад обращалось внимание на то, что более полезным при допросе будут специальные познания не педагога, а психолога или врача-психотерапевта, позволяющие обеспечить полноту допроса с помощью правильно сформулированных вопросов [8, с. 96]. Заметим здесь, что правильно сформулированные вопросы допрашиваемому еще не гарантируют получения полных и правдивых ответов на них. Психологическое сопровождение следственного действия должно иметь место на всех этапах его проведения, его значимость повышается при фиксировании в протоколе допроса и видеозаписи (если она применяется) показаний несовершеннолетнего потерпевшего.
Итак, педагог или психолог должны вовлекаться в уголовный процесс в качестве самостоятельных участников. Соответственно, раздельно должен определяться их процессуальный статус (права и обязанности). При этом некоторые права и обязанности специалиста, педагога и психолога могут совпадать. В связи с этим возможно использование следующих приемов законодательной техники:
-
а) закрепление общих для педагога и психолога прав и обязанностей в связи с участием в следственных действиях с несовершеннолетним потерпевшим;
-
б) установление «персонифицированных», дополнительных прав психолога для случаев, когда признается обязательным его участие в следственных действиях с несовершеннолетним потерпевшим по уголовному делу о преступлении
58.1 «Педагог (психолог)»; в разработанной автором новой редакции части 5 статьи 164 УПК
против половой неприкосновенности.
В рамках рассмотрения проблемы модификации нормативной основы участия педагога и психолога в следственных действиях с несовершеннолетними потерпевшими второе научно-практическое направление «Педагог и психолог — самостоятельные участники уголовного процесса, выполняющие отличные от специалиста процессуальные функции» доктринально также представлено исследованием М. С. Демкиной, подготовившей системные предложения по дополнению УПК РФ нормами, устанавливающими уголовнопроцессуальный статус педагога и психолога [9, с. 189—190]. Автор, так же, как и З. А. Балтыкова, после- довательно придерживается точки зрения о полной взаимозаменимости педагогом психолога, полагает, что они реализуют в уголовном процессе одинаковые уголовнопроцессуальные функции. Сходной точки зрения придерживается В. Ю. Дорофеева в своем диссертационном исследовании [10, с. 18]. В других работах В. Ю. Дорофеева выступает против рассмотрения педагога и психолога как единой процессуальной фигуры [10, с. 404—406].
С подобным подходом к пониманию выполняемых процессуальных функций педагогом и психологом согласиться нельзя по причинам, изложенным выше. Кроме того, М. С. Демкина, будучи сторонником признания педагога и психолога самостоятельными участниками уголовного процесса (исследователь посвятила в своем за- конопроекте специальную статью
РФ педагог и психолог перечисляются наряду со специалистом), распространяет на них большинство положений, определяющих процессуальный статус специалиста, фактически объединяя их в одном лице — специалисте.
Однако характер задач, решаемых, по мнению М. С. Демкиной, педагогом и психологом в связи с участием в следственных действиях (обеспечение защиты психического здоровья несовершеннолетнего; контроль за соблюдением процедуры производства следственного действия в условиях, исключающих получение несовершеннолетним психической травмы), явно дистанцирует их от специалиста, который законом нацелен на оказание помощи следователю в получении и оценке доказательств. Создается впечатление, что педагог и психолог, судя по отведенной им роли М. С. Демкиной, не влияют на процесс получения показаний. Хотя перечень прав, которыми предполагается наделить педагога и психолога, указывает на то, что они должны будут оказывать содействие следователю для достижения процессуальной цели следственного действия — получение максимально полных показаний допрашиваемого несовершеннолетнего в ходе одного допроса.
В подготовленном
М. А. Шуваловой доктринальном законопроекте предусмотрено лишь наделение новыми правами педагога и психолога, участвующих в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (составление по окончании допроса характеристики несовершеннолетнего с раскрытием в ней уровня психического развития и других особенностей личности). О правах педагога и психолога в связи с участием в следственных действиях с несовершеннолетним свидетелем и потерпевшим в законопроекте информации нет.
В завершение хотелось бы отметить, что с высказываемой отдельными исследователями точкой зрения о неразработанности в настоящий момент теории участия педагога и психолога в уголовном судопроизводстве можно согласиться лишь частично. Единой доктринальной позиции по главным вопросам, связанным с процессуальным статусом педагога и психолога, действительно не выработано. Однако за время действия УПК РФ, давшему некий толчок к активизации научных исследований, связанных с привлечением педагога и психолога к проведению следственных действий с несовершеннолетними, в уголовно-процессуальной теории сформировалось отдельное направление, которое условно можно назвать «психолого-педагогическое обеспечение уголовного судопроизводства». Подтверждением этому служат десятки защищенных диссертаций и научных публикаций по указанной проблематике. Анализ данных источников и норм УПК РФ, посвященных специалисту, педагогу, психологу, приводит к следующим выводам:
-
1. Механическое распространение правового статуса специалиста (ст. 58 УПК РФ) на педагога и психолога не имеет под собой объективных оснований. Это не исключает совпадение у них некоторых общих прав (знакомиться с протоколом следственного действия и делать замечания, подлежащие занесению в протокол) и обязанностей (являться по вызовам следователя, не разглашать данные предварительного расследования)
-
2. Педагог и психолог осуществляют в уголовном судопроизводстве самостоятельные по отношению к специалисту уголовно-процессуальные функции.
-
3. Законодатель занимает двоякую позицию в вопросе о характере задач, решаемых педагогом и психологом в связи с участием в следственных действиях с несовершеннолетним потерпевшим. После дополнения федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ статьи 191 УПК РФ новой частью (четвертой) появились формальноюридические предпосылки к тому, чтобы считать: педагог и психолог не являются тождественными процессуальными фигурами, цель их участия в следственных действиях различна.
-
4. В рамках основанного на ч. 1 и 4 ст. 191 УПК РФ взаимодействия следователя с психологом, несовершеннолетним потерпевшим решаются две основные задачи: получение от потерпевшего полных, развернутых показаний в ходе одного допроса и исключение вторичной травмати-зации его психики фактом проведения следственного действия.
-
5. В случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 191 УПК РФ, показания несовершеннолетнего потерпевшего, полученные с участием педагога вместо психолога, должны признаваться с учетом требований ст. 75 УПК РФ недопустимым доказательством.
-
6. Требуется совершенствование норм УПК РФ в части процессуального статуса психолога как участника следственных действий с закреплением его прав, обязанностей, ответственности. Наряду с правом знакомиться с протоколом следственного действия и делать замечания, подлежащие занесению
специалиста, педагога и психолога.
в протокол, психолога следует наделить дополнительными правами, в частности:
— до проведения следственного действия знакомиться с материалами уголовного дела, характеризующими несовершеннолетнего потерпевшего;
— до начала следственного действия с разрешения следователя, дознавателя, суда встретиться и провести беседы с несовершеннолетним потерпевшим;
— информировать следователя, законного представителя и других лиц о психическом состоянии малолетнего потерпевшего;
— высказывать в ходе следственного действия обоснованные рекомендации о необходимости в связи с психическим состоянием ребенка приостановить допрос или изменить характер его проведения, об отстранении законного представителя от участия в следственном действии.
Ввиду ограниченного объема статьи за ее рамками остались другие аспекты привлечения психолога к участию в следственных действиях, также нуждающиеся в рассмотрении. Вот лишь некоторые из них.
В контексте специфики профессиональной деятельности педагога (передача знаний, обучение и воспитание) и психолога (выявление психологических особенностей лица и выработка рекомендаций по коммуникации с ним в сложных психологических ситуациях) предстоит определить перспективу и целесообразность привлечения педагога к следственным действиям с несовершеннолетними.
Учитывая ограниченность отведенного законом времени на допрос несовершеннолетнего по- терпевшего (в зависимости от возраста допрашиваемого допрос ограничен одним, двумя или четырьмя часами) необходимо выработать механизм решения задачи получения от него полных, развернутых показаний в ходе одного допроса и исключения вторичной травмати-зации его психики.
Предусмотренная законом возможность просмотра в суде видеозаписи показаний несовершеннолетнего потерпевшего, данных в досудебном производстве, вместо его непосредственного допроса (ч. 6 ст. 281 УПК РФ), ставит перед психологом дополнительную задачу — убедить потерпевшего и его законного представителя согласиться с применением видеозаписи в ходе допросов, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего.
В ходе подготовки статьи нами был проведен опрос следователей органов внутренних дел и Следственного комитета Российской Федерации. Всего опрошено 95 респондентов по наиболее принципиальным вопросам, по которым в статье сделаны соответствующие выводы и предложения по совершенствованию УПК РФ. Вот его результаты.
-
1. 55,8 % следователей считают, что педагог и психолог участвуют в следственных действиях в качестве специалиста, остальные 44,2 % респондентов признают их самостоятельными участниками.
-
2. На вопрос «Одинаковые или разные процессуальные функции реализуют педагог и психолог в связи с участием в следственных действиях с несовершеннолетним потерпевшим?» больше половины следователей (55,8 %) ответили, что разные. Остальные 44,2 % участвовавших
-
3. Ответы на следующий, взаимосвязанный с предыдущим вопрос («Допустима ли взаимозаменяемость педагога и психолога, участвующих в уголовном деле в порядке ч. 1 ст. 191 УПК РФ?») оказались такими: две трети считают допустимой указанную замену, 37,8 % опрошенных следователей исходят из того, что фигуры педагога и психолога неравнозначные и поэтому заменять друг друга они не могут.
-
4. С учетом позиции следователей по третьему вопросу неожиданными оказались ответы на четвертый вопрос: «В случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 191 УПК РФ, должны ли показания несовершеннолетнего потерпевшего, полученные с участием педагога вместо психолога, признаваться недопустимым доказательством?». 74,7 % респондентов ответили на него утвердительно, и только четвертая часть следователей посчитала указанное нарушение требования ч. 4 ст. 191 УПК РФ несущественным, не влекущим утраты статуса доброкачественного законодательства.
-
5. Большинство респондентов (77,9 %) усматривают целесообразность совершенствования норм УПК РФ в части правового положения психолога как участника следственных действий с несовершеннолетним потерпевшим с закреплением его прав, обязанностей, ответственности. 14,7 % опрошенных следователей не видят необходимости в таких изменениях, а 7,3 % следователей затруднились дать конкретный ответ на этот счет.
-
6. Признавая обязательным участие психолога в следственных действиях по уголовному делу
в опросе следователей придерживаются мнения о том, что их функции совпадают.
о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, закон не предусматривает конкретных его прав в этих случаях. Для выяснения мнения следователей в этой части предварительно им был задан вопрос: «Требуется ли установление соответствующих прав психолога для указанных случаев?». Положительно на него ответили 69,5 % следователей, отрицательно — 20,0 % и 10,5 % респондентов не имеют по нему какой — либо позиции.
Относительно конкретных прав психолога в связи с его участием в следственных действиях по уголовному делу о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего следователи высказались следующим образом.
Чуть больше половины из них (52,6 %) считают, что психолог в первую очередь должен быть наделен правом знакомиться с материалами уголовного дела, характеризующими несовершеннолетнего потерпевшего. Несколько больше трети респондентов (38,9 %) допускают право психолога до начала следственного действия с разрешения следователя встретиться и провести беседу с несовершеннолетним потерпевшим.
За предоставление психологу права информировать следователя, законного представителя о психическом состоянии несовершеннолетнего потерпевшего высказались две трети следователей, 60,0 % респондентов полагают уместным наделить психолога правом доводить до сведения следователя, учитывающие психическое состояние допрашиваемого рекомендации приостановить допрос либо изменить характер (методику) его проведения. Треть участников опроса со- гласна с тем, что психолог вправе рекомендовать следователю отстранить от участия в допросе законного представителя несовершеннолетнего.
Таким образом, полученные при указанном опросе следователей данные созвучны сформулированным в статье выводам и предложениям относительно оптимизации участия психолога в следственных действиях с несовершеннолетним потерпевшим. Большинство из них не отождествляют, а, напротив, различают реализуемые в уголовном процессе педагогом и психологом процессуальные функции, считают их самостоятельными невзаимозаменяемыми участниками, видят целесообразность совершенствования процессуального статуса психолога и наделения его рядом дополнительных прав.
Список литературы Направления совершенствования правового регулирования участия психолога в следственных действиях с несовершеннолетним потерпевшим
- Россинский С. Б. Досудебное производство по уголовному делу: сущность и способы собирания доказательств // Норма. - М., 2021. - С. 209-210.
- Тетюев С. В. Педагог - это специалист или самостоятельный участник уголовного судопроизводства? (К вопросу о несовершенстве УПК РФ) // Науч. тр. РАЮН. Вып. 5. - М., 2005. - Т. 3. - С. 301-305.
- Вдовцев П. В. Участие педагога (психолога) в допросе, очной ставке, опознании, проверке показаний несовершеннолетнего потерпевшего: отдельные аспекты проблемы // Раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, связанных с насилием над несовершеннолетними: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 20 апр. 2017 г.) / под общ. ред. А. М. Багмета. - М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2017. - С. 86-90.
- Балтыкова З. А. Тактика допроса малолетних свидетелей и потерпевших на предварительном следствии. - М., 2019. - С. 47-48.
- Галдин М. В. О совершенствовании законодательства, регулирующего участие педагога и психолога в уголовном процессе / М. В. Галдин, К. А. Костенко // Российский судья. - 2021. - № 5. - С. 18-19, С. 20.
- Шувалова М. С. Участие психолога и педагога в уголовном судопроизводстве: дис.. канд. юрид. наук. - СПб, 2019. - С. 45, С. 48.
- Бычков А. Н. Участие педагога в уголовном судопроизводстве: дис.. канд. юрид. наук. - Ижевск, 2007. - С. 8.
- Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция. Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии. - М., 2001. - С. 96.
- Демкина М. С. О дальнейшем реформировании уголовного судопроизводства Российской Федерации в направлении гарантированности несовершеннолетних участников // Юридический вестник Самарского университета. - Т. 3. - № 4. - 2017. - С. 189-190.
- Дорофеева В. Ю. Процессуально-тактические особенности деятельности профессионального представителя несовершеннолетнего потерпевшего в российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис.. канд. юрид. наук. - Воронеж, 2009. - С. 18; Она же. Участие психолога при допросе несовершеннолетнего потерпевшего: сб. мат-в науч.-практ. конф. Ч. 1. - Воронеж, 2008. - С. 404-406.