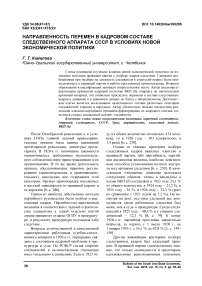Направленность перемен в кадровом составе следственного аппарата СССР в условиях новой экономической политики
Автор: Камалова Галина Тимофеевна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы теории и истории государства и права
Статья в выпуске: 2 т.16, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению влияния новой экономической политики на изменение подходов правящей партии к подбору кадров следствия. Главными требованиями при подборе на должность следователя в советский период были принадлежность к правящей партии и рабоче-крестьянское происхождение. Вопросы образования и квалификации занимали второстепенное место. Автор анализирует реализацию принципов кадровой политики ВКП (б), опираясь на значительный архивный материал, что позволило проследить перемены в составе следственных кадров в динамике и в сравнении данных по Уралу с общесоюзными. Достоинством статьи является исследование качественного состава различных категорий следователей: старших и народных. Автор убедительно показал последствия реализации классово-партийного принципа формирования их кадрового состава, попытался создать социальный портрет следователя.
Новая экономическая политика, народный следователь, старший следователь, ссср, урал, партийность, классовый подход, вкп (б)
Короткий адрес: https://sciup.org/147150066
IDR: 147150066 | УДК: 34.08(47+57) | DOI: 10.14529/law160205
Текст научной статьи Направленность перемен в кадровом составе следственного аппарата СССР в условиях новой экономической политики
После Октябрьской революции и в условиях НЭПа главной задачей правоохранительных органов была защита завоеваний пролетарской революции, диктатуры пролетариата. В 1920-е гг. понимание законности ограничивалось требованием неукоснительного соблюдения норм права гражданами и их организациями. В то же время деятельность органов, обеспечивающих правовое регулирование (правотворческих и правоприменительных), находилась вне содержания этой категории. Органы правопорядка находились в жесткой зависимости от правящей партии и ее директив [6, c. 286].
Одним из наиболее действенных методов партийного руководства были подбор и расстановка кадров. Партийно-государственный механизм в соответствии с задачей строительства социализма в одной отдельно взятой стране приоритет отдавал ОГПУ и прокуратуре, в результате прокуратура подчинила себе следствие.
Вопросы количественной и качественной характеристики работников судебно-следственного аппарата в 1920-е гг. неразрывно связаны с состоянием кадровой проблемы в прокуратуре и суде. По РСФСР состав старших следователей в количественном отношении имел тенденцию к снижению. Если в 1923 го- ду их общее количество составляло 434 человека, то в 1926 году – 303 (сократилось в 1,4 раза) [6, c. 239].
Одним из главных критериев подбора следственных кадров являлось членство в правящей партии, ибо партийность, партийная дисциплина являлись наиболее действенным способом установления полного контроля над органами следствия [6, c. 230]. В качественном отношении динамика выглядела следующим образом: члены и кандидаты в члены ВКП (б) составляли в 1923 году 24,1 % от общего количества, в 1924 году – 23,2 %, в 1925 году – 34 %, в 1926 году – 32,3 % (рост по сравнению с 1923 годом на 7,2 %). Но несмотря на рост, все-таки удельный вес коммунистов среди работников следствия был ниже, чем в суде и прокуратуре. Среди следователей в 1925 году – 48,4 % и у старших следователей – 32,3 % [8, с. 19]. К концу 1920-х гг. партийная прослойка значительно возросла, за период с 1 июля 1928 г. по 1 января 1930 г. с 54,1 % до 67,8 % [5, с. 149– 150].
Другим важнейшим критерием подбора следственных кадров был классовый принцип. В правящей партии господствовало мнение, что только «коммунисты и пролетарии, вдохновленные революционным сознанием, могли использовать широкие полномочия, представляемые им уголовным правом, в интересах охраны революционного правопорядка» [9, с. 36]. Для усиления классовой направленности в работе органов следствия осуществлялся лозунг «орабочивания», то есть увеличение в ее составе рабочих и снижение доли служащих. Уральский обком ВКП (б) поставил задачу довести долю рабочих в следственном аппарате до 60 % [2]. «Следователями в рабоче-крестьянском государстве не могут быть лица без пролетарского классового чутья, политически не развитые, с бюрократическими замашками, лентяи, неустойчивые и слабохарактерные», – подчеркивал окружной прокурор Д. И. Вотинов в статье «Следственный аппарат и его задачи на 1926 г.» [1].
Доля рабочих, несмотря на стремление «орабочить» следственный аппарат, была невелика и составила в 1923 году – 9,4 % от общего количества, в 1926 году – 8,6 %; доля крестьян за этот период возросла с 29,7 % до 30 %. Основная масса старших следователей (59,3 % в 1923 году и 61,4 % – в 1926 году) – это представители интеллигенции. Отсюда сравнительно высокий уровень образования, а именно доля с высшим образованием в 1923 году составила 41,9 % от общего количества, в 1926 году – 43,3 %; доля с начальным образованием снизилась с 25,6 % в 1923 г. до 25 % – в 1926 году [7, с. 138]. Старшие следователи в профессиональном отношении были подготовлены лучше народных следователей [6, c. 240].
Состав народных следователей имел несколько иную динамику, чем у старших следователей. Общее количество народных следователей по РСФСР за период с 1923 по 1926 гг. выросло с 1225 человек до 1609 (рост в 1,3 раза). Доля членов партии увеличилась с 41,6 % от общего количества до 43,4 %; доля рабочих – с 16 % до 19,7 %; доля крестьян – с 41,9 % (1923 год) до 45,3 % (1926 год), зато доля представителей интеллигенции сократилась с 39,7 % от общего количества народных следователей в 1923 году до 36,2 % 1926 году. С этим связаны изменения в уровне образования: доля с высшим юридическим образованием снизилась с 20,2 % в 1923 году до 15,8 % в 1926 году (снижение на 4,4 %), но при этом доля со средним образованием увеличилась с 20,6 % (1923 год) до 23,3 % (1926 год). Сократилась и доля лиц с начальным образованием с 57,8 %. до 53,3 %, хотя лица с низшим обра- зованием по-прежнему преобладали [7, с. 139]. Поэтому профессиональный уровень следователей РСФСР оказался ниже дореволюционного [6, c. 240].
На Урале тенденции развития следственных кадров почти не отличались от соответствующих процессов по РСФСР. Изменения количественного и качественного состава следственного аппарата в Уральской области в 1920-е гг. имели положительную динамику. В 1924 году старших следователей в области было 15 человек. Если в целом по РСФСР доля коммунистов среди старших следователей равнялась 10,1 %, то на Урале члены партии составляли 33,3 % (в три раза больше). Были отличия и по социальному составу. По РСФСР основную массу составляли представители интеллигенции, а на Урале рабочие – 20 %, крестьяне – 46,6 %, служащие – 33,3 %, то есть преобладали крестьяне. В 1928 году старших следователей в области стало 18 человек, при чем члены партии – 71,3 % от всех (рост по сравнению с 1924 годом более чем в два раза). Их социальный состав характеризовался следующими переменами: доля рабочих выросла с 20 % в 1924 году до 26 % в 1928 году (то есть изменения не значительны), зато процент крестьян снизился с 46,6 % в 1924 году до 30,2 % в 1928 году (снижение в 1,5 раза), а доля служащих за этот период возросла с 33,3 % до 43,8 %. Это повлекло за собой и определенные изменения в уровне образования, хотя по-прежнему преобладали следователи с низшим образованием (68 % от всех) [6, c. 240–241].
Анализ изменений в составе следственного аппарата области показывает рост количества народных следователей. Если в 1924 году их было 137, то в 1928 году – уже 184 (рост в 1,3 раза), по партийности: в 1924 году были членами ВКП (б) 71,5 % от общего количества, в 1928 году – 71,3 %. Рабочие в 1924 году – 39 человек (28,5 % от всех), в 1928 году – 26 %; крестьяне 50,3 % – 1924 год и 30,2 % – 1928 год, служащие – 1924 год – 18,2 %, в 1928 году – 43,8 %. Рост следственного аппарата в Уральской области был связан прежде всего с восстановлением экономики региона, укреплением местного бюджета, а также осознанием местными партийными и советскими руководителями роли революционной законности в общественной жизни [6, c. 241].
По уровню образования: в 1924 году 103 человека имели низшее образование, то есть 75,2 % от всех, высшее – 8 человек (5,8 % от всех). В 1928 году следователи с низшим образованием составляли 68 % от общей численности, со средним – 14 %, с высшим – всего 2,6 %. Выдвижение на первый план партийно-классового принципа подбора кадров неизбежно сопровождалось снижением образовательного ценза. В 1928 году качественный состав следователей несколько улучшился за счет лиц, окончивших областные юридические курсы, они составляли 12,2 % от общего количества [3; 4].
Состав следователей Уральской области в 1926 году характеризовался следующими показателями: следственных участков в области – 157, следователей – 152, то есть штат не был полностью укомплектован, что увеличивало нагрузку на одного следователя. Беспартийные составляли всего 28 % от состава. По социальному происхождению: 27 % от всех – рабочие, 53 % – крестьяне, 65 % от всех имели низшее образование. То есть народный следователь в Уральской области – это крестьянин, член ВКП (б), с низшим образованием [6, c. 242].
Таким образом, изменения кадрового состава следственного аппарата носили однонаправленный с РСФСР характер и определялись их правовым статусом и политической линией правящей партии. Кадровая политика в отношении работников правоохранительных органов Урала в 1920-е гг. носила целенаправленный характер, что привело к торжеству главного большевистского принципа отбора кадров – партийно-классового. При отборе сотрудников на службу основное внимание уделялось преданности политической линии в ущерб профессионализму, образованию и практическому опыту кандидатов. Партийные органы контролировали кадровый состав, используя такие рычаги, как партийная дисциплина, отчеты и доклады, проверки и т.п.
Именно кадровая политика партии в отношении всего государственного аппарата, в том числе и правоохранительных органов, была основным рычагом проведения в жизнь ее политических решений [6, c. 286–287].
Список литературы Направленность перемен в кадровом составе следственного аппарата СССР в условиях новой экономической политики
- Бюллетень Кунгурского Окружного Исполнительного Комитета Советов Р. К. и К. Депутатов Уральской области. -1926. -№ 4 (27).
- Государственное учреждение. Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО). Ф. 4. Оп. 7. Д. 324. Л. 42.
- Государственное учреждение. Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО). Ф. 4. Оп. 2. Д. 274; Л. 13; Д. 272-а. Л. 32; Оп. 7. Д. 324. Л. 131.
- Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. Р. 2259. Оп. 1. Д. 22. Л. 61; Д. 51. Л. 10.
- Два года работы (1928/29-1919/30 гг.). Материалы к отчету правительства РСФСР на XV Всероссийского съезда Советов. -М., 1931.
- Камалова, Г. Т. Правоохранительные органы Урала в годы новой экономической политики: дис. … д-ра истор. наук/Г. Т. Камалова. -Челябинск, 2009. -491 с.
- Ломов, В. С. Органы предварительного следствия Советского государства в первой половине 20-х гг./В. С. Ломов. -Волгоград: ВСШ МВД России, 1994. -153 с.
- Сводный отчет о деятельности губернских областных и краевых судов за 1925 г. -М., 1926.
- Соломон, П. Советская юстиция при Сталине/П. Соломон. -М.: РОССПЭН, 1998. -464 с.