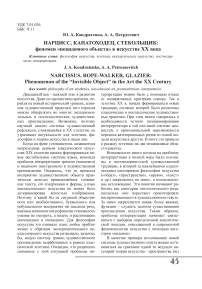Нарцисс, канатоходец, стекольщик: феномен «невидимого объекта» в искусстве ХХ века
Автор: Кондратенко Юрий Алексеевич, Петрусевич Александр Анатольевич
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (17), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается феномен «невидимого объекта», который характеризует систему восприятия пространства в искусстве ХХ века, показывается, как под влиянием новой практики художественной топографии изменились принципы интерпретации и оценки произведений искусства, были переосмыслены критерии выразительности языка.
Философия искусства, эстетика, неклассическое искусство, постмодернизм, интерпретация
Короткий адрес: https://sciup.org/14720667
IDR: 14720667 | УДК: 7.01.036
Текст научной статьи Нарцисс, канатоходец, стекольщик: феномен «невидимого объекта» в искусстве ХХ века
Двадцатый век – важный этап в развитии искусства. Даже по прошествии времени, перейдя на новый исторический уровень, влияние художественной практики того периода можно обнаружить во многих экспериментальных и постклассических художественных произведениях. Возможно, поэтому научный анализ системы художественной рефлексии, сложившейся в ХХ столетии, не утрачивает актуальности для эстетики, философии и теории искусства в наши дни.
Когда на фоне устоявшегося, казавшегося непреходяще ценным классического искусства XIX столетия начали формироваться новые нестабильные системы языка, возникла проблема интерпретации зримого (внешнего) и видимого (внутреннего) в художественном произведении. Оказалось, что из процесса восприятия художественного объекта практически исчезло прямолинейное толкование текста, его содержания и формы, а язык неклассического искусства не может быть детерминирован ясностью изображения. Поэтому о какой бы из ситуаций объективного или необъективного, буквального или небуквального восприятия ни заходила речь, важным компонентом рефлексии становилось умение не смотреть, а видеть и распознавать неочевидное в очевидном. Для философии искусства это означало одно: любое приближение к образцам экспериментального неклассического искусства размывало, казалось бы, ясную систему границ художественного произведения, выработанных в рамках классической эстетики. Очевидно, что разрешить связанные с этой ситуацией проблемы ин- терпретации можно было с помощью отказа от императивных критериев оценки. Так в эстетике ХХ в. начала формироваться новая традиция, согласно которой были разделены классические и неклассические художественные практики. При этом много говорилось о необходимости четкого позиционирования интерпретатора в той или иной системе ценностей, о принципиальной невозможности переноса категориальных рядов из одной модели искусства в другую. В итоге это привело к расколу эстетики на две независимые области анализа.
Возможности иного взгляда на проблему интерпретации в полной мере были осознаны в постмодернистской художественной традиции, в которой за важнейшими классическими категориями философии искусства («образ», «пространство», «время», «текст» и др.) закрепилось не моно-, а полисмысло-вое истолкование. Эти понятия начинают работать как категории онтологического ряда, поскольку они перестают ориентировать воспринимающего в художественном тексте. За ними закрепляется новая, более важная, функция – служить залогом существования произведения искусства. Таким образом, проблема интерпретации начинает связываться с выбором определенной аналитической позиции, описываемой в современной феноменологии искусства с помощью категории «видение».
В качестве примера истолкования новой системы художественного опыта можно остановиться на трактовке одной из ведущих категорий теории искусства – пространстве. Без нее сложно представить функционирование системы рефлексии в искусстве, объекты которого всегда существуют в пространственновременной системе координат. В классической традиции пространство художественного произведения ограничивалось реальностью, рассматриваемой в двух плоскостях: пространство типизируемое и пространство идеализируемое. Неклассические практики начала ХХ столетия обратили внимание на третий тип пространства – воображаемое. С его помощью удалось расширить возможности анализа сконструированных объектов с новыми качествами. При таком подходе осмысление произведения искусства увязывалось с системой зрительно-образного истолкования художественного произведения, когда все видится в пространстве, через него и мыслится как пространство. В этом случае на первый план выходит оценка свойств «невидимого объекта», отражающего глубинную «эстетическую внешность явления», а не предметной оболочки объекта, которую обозначают понятием «изображение».
Присутствие объектов нового типа можно обнаружить во многих художественных произведениях искусства эпохи модерна и постмодерна. Например, среди стихотворений в прозе О. Уайльда есть одно с достаточно парадоксальным названием – «Поклонник». Оно повествует о трагедии ручья, в который смотрелся Нарцисс перед смертью, о трагедии существа, потерявшего поклонника: «Нарцисс любим был мною за то, что он лежал на моих берегах, и смотрел на меня, и зеркало его очей было всегда зеркалом моей красоты» [8, c. 68]. Описанный здесь эффект инверсии взглядов, когда видимое становится видящим, интересен во многих отношениях. Перед нами феномен отражения красоты в красоте, трансформации поверхности под воздействием взгляда (смерть Нарцисса и превращение ручья в «чашу соленых вод»). Аналогичная инверсия восприятия описана и у Ж. Кокто в стихотворении «Могила Нарцисса»: «Снял маску тот, кто в этот гладкий // Ручей смотрелся спозаранку. // Смерть с ним сыграла, как с перчаткой, // И вывернула наизнанку» [4, c. 67].
Оба примера – образец своеобразной пространственной игры, ставшей частью процесса выражения в художественной практике нового искусства. Одним из условий ее возникновения служит наличие «дистанции», изменяющей, а порой и сознательно запутывающей позицию наблюдения. В сценарии Ж. Кокто к фильму «Орфей» подобное пространственное дистанцирование превращается в самостоятельный образ Зоны, которая «не отражает ни одной общепринятой догмы. Это обочина жизни, пустырь между жизнью и смертью. Человек там не совсем жив и не совсем мертв» [5, c. 328]. Необходимым элементом такого пространства между жизнью и смертью является обитающий там Стекольщик. Стекла, которые он предлагает по привычке, – обманка и подобие, лишающее жизнь всякого смысла вне Зоны. Многочисленные зеркала на ее границах порождают двойное видение с точкой схождения в пространстве дистанции. Перед нами реальность в неожиданном ракурсе, поскольку сама зона видения «друг в друге» или «себя в себе» приобретает новую трактовку.
Подобный тип художественной топографии имеет принципиально иную организацию по сравнению с классической системой пространства. В нашем случае объект не явлен миру до отражения, он потенциально возможен лишь в мгновение воображения, а художник всякий раз всматривается в пустоту, обнаруживая там всегда нечто неопределенное. Неслучайно уже с конца XIX столетия в искусстве происходит переосмысление метафоры зеркала. Зазеркалье наполняется нечеткими образами, обнаруженными в его бесконечной глубине. С этой целью подвергаются разрушению критерии рационально постигаемой реальности. Им на смену приходят аффективные способы видения: сон, бред, кошмар и пр.
Эта проблема приводит нас к вопросу о поведении художника и зрителя, ведь, проникая взглядом в некую обезличенную среду, они видят перед собой лишь нейтральное поле воображаемого пространства, лишенное индивидуальных характеристик, законченности и авторства. Художник и зритель помещаются перед одним зеркалом, но ни тот, ни другой не нужны зазеркальному воображаемому пространству, наделенному универсальной автономией. Такое пространство состоит из интервалов и пустот, между которыми нет никаких причинно-следственных взаимосвязей. «Когда Пикассо глядит на группу предме- тов, – пишет Ж. Кокто, – то переворачивает их и постепенно переносит в собственный мир, где законы устанавливает он, но он никогда их не приукрашивает. Он никогда не выпустит из поля зрения их предметную энергию. Он отменяет их отождествление и сохраняет похожесть этих предметов, выраженную уже другими шифрами, но составляющими то же целое. Он замещает иллюзию рассудка оптической иллюзией. Его картина – это просто картина. Она живет сама по себе. И ни о чем другом не оповещает» [4, с. 628].
Произвольно возникающее пространство за зеркалом претендует на то, чтобы стать местом, обладающим возможностью отражения подлинной сущности индивидуального бытия, утверждая при этом присутствие чего-либо в собственном пространстве в качестве отсутствия в опыте реальности. Например, когда Ж. Жене в работе «Канатоходец» уподобляет актера Нарциссу, он призывает его закрыть глаза и, танцуя в одиночестве на канате, ощутить всю бездну создаваемого образа. Умирая еще до появления на арене, актер являет собой «танцующего мертвеца», достигая состояния «некоммуникабельного одиночества» [7, c. 217–219]. Пространство более не определяет образ, как и последний не определяет пространство. Скорее, они со-положены как идентичные, поэтому в новой системе искусства нет стремления к остановке реальности и тотальному «покрытию» всей ткани художественного текста. В творческом акте схватывается лишь мгновение идентификации объекта в момент его метафорической смерти. Образ, а не его творец определяет пространство проявления, что и дает художественной структуре определенную автономию.
В подобной системе отражения отчетливо проступает стремление к преодолению бесконечности, к гибели того, без чего произведение окажется ничем. Метафорой подобной модели хронотопа служат лабиринты У. Эко, Ф. Кафки и Х. Л. Борхеса. Временной поток в них бесконечен и не структурен, равно как и пространство не имеет ориентиров, потому что оно замещено подобием наполненности. Пустота – центральное место лабиринта, вокруг нее сконцентрирован мир художественного текста, весь нарратив которого ведется именно о центре лабиринта. Здесь время, сведенное в точку, порождает стремление к преодолению пространства «наконец увиденного, чей центр повсюду, а окружность нигде» [2, c. 262]. Благодаря этому образ поглощает индивидуальность, человек начинает существовать для образа, а одиночество предметов познает наше одиночество: «Если я смотрю на шкаф, чтобы понять, наконец, чем он является на самом деле, мне нужно исключить все, что не является шкафом. И усилие, которое я совершаю, приводит меня в странное состояние: я, наблюдатель, перестаю существовать и даже наблюдать в настоящем: не уходя ни в прошлое, ни в неопределенное будущее. Я прекращаю существовать ради того, чтобы существовал шкаф, упраздняя между собой и шкафом любые чувственные и утилитарные связи», – пишет Жене [7, c. 201]. «Одиночество предмета» вызывает вопрос о том, что должен «представить мне холст» в моем «опыте пространства». Это «одновременно и изображение на холсте – и реальный предмет, который изображение представляет, которые мне хочется познать в их одиночестве» [7, c. 192]. В подобном случае у Жене возникают образы, в которые переносится вся сущность существ, образы связаны со скоростью взгляда, когда каждая поза обретает причудливую форму, содержащую всю неизвестную боль одиночества: «Одиночество для меня – это не жалкое состояние, напротив, скорее тайное господство, не глубокая замкнутость, но знание (более или менее неясное) непостижимого своеобразия» [7, c. 196].
В этих условиях художник может лишь попытаться наделить ощутимой реальностью то, что является отсутствием «однозначной неопределенности», а метафорически – белой поверхностью, абсолютно чистым листом бумаги, который не существует без линий. Но даже если линии придают белому листу форму и значение, важна не сама линия, «а ограниченное ею белое пространство, целостна не черта, а белое пятно» [7, c. 205]. Белое пятно для листа бумаги необходимо для того, чтобы обозначить белое пространство. Вспомним сцену из фильма Кокто «Орфей», когда главный герой беседует в кафе поэтов с неким господином, предлагающим Орфею посмотреть стихи молодого поэта Сежеста. Открыв книгу, герой обнаруживает чистые страницы. В ответ на его реплику он слышит следующее:
«…Орфей, ваша главная беда в том, что вы знаете пределы тому, что называется “зайти слишком далеко”» [5, c. 332].
Практика поиска пустого центра может быть проиллюстрирована на еще одном примере. Речь идет о проблеме разгадки смысла живого лица у Жене. Для ее разрешения автор изначально изолирует лицо: «Если мой взгляд отделяет его от всего окружающего, если мой взгляд (мое мнение) не позволяет этому лицу смешиваться с остальным миром и бесконечно растворяться в каких-то все более и более туманных смыслах, чужих для себя, и если, наоборот, достигнуто то одиночество, благодаря которому мой взгляд отделяет это лицо от мира, то его единственный смысл нахлынет и воплотится в этом лице – или человеке, или существе, или явлении» [7, c. 92]. Пространство при таком «выделяющем» всматривании разрывается на элементы и останавливает свое движение. Благодаря такой «остановке» предметы обретают место, тишину и легкость: «Портфель был одинок настолько, что у меня сложилось впечатление, что если поднять стул, портфель останется на своем месте» [7, c. 199]. Беккет писал об этом же явлении: «Последовательность изобразима только через следующие друг за другом состояния, только если добиться настолько быстрой их смены, что они, в конце концов, смешаются, я бы сказал, почти замрут в остановленном образе самой последовательности. Довести природную незримость окружающих вещей до того, что она сама станет вещной – станет не просто сознанием границы, а вещью, которую можно увидеть и показать» [2, c. 265].
Прямым следствием такого способа видения, связанного с блужданием в пустоте, может служить смена манеры освоения пространства с визуального на тактильное. У Жене, например, довольно часто мы встречаем примеры того, как мир, скрытый видимостью, ощущается тактильно, благодаря чему образы и чувства всегда возникают до взгляда. Таковы два случая восприятия скульптур, описанные им в работе «Мастерская Альберто Джакометти». В первом случае речь идет о проявлении из мрака фигуры Осириса, когда до взгляда его фигуру стало распознавать плечо, затем затылок. В другом – он «рассматривает» скульптуру с закрытыми глазами, ощу- пывая ее. Область впечатлений сведена здесь к счастью, которое испытали его пальцы. Как говорит Жене, рука «видит и “живет”, следуя за пальцами скульптора, повторяя путь по следам пальцев скульптора, искавшего в материале точки опоры» [7, c. 197].
Не только тактильное «осязание», но и особый тип движения превращается в необходимый способ перехода от одной границы видения к другой. В новой системе «блуждания» в пространстве движение – это колебание существования, это то, что располагает между покоями, позволяет встретить «взгляд во мне», почувствовать зону отражения. Например, под влиянием А. Бергсона А. Арто рассматривал движение как центростремительное (извне вовнутрь) и центробежное (изнутри вовне) и считал, что мысль всегда проходит этими двумя путями: от пустоты к полноте и обратно в пустоту; от абстрактного к конкретному и наоборот. Такое движение связано с особым типом сознания, которое, как отмечает Арто, рождает «мысль без остановки». Такая чистая длительность позволяет разуму видеть в фиксированной мысли уже прошедшее, обретшую пустоту форму [1, c. 254]. Поэтому сам процесс творчества у Арто – есть движение духа из пустоты к формам и через них обратно в пустоту, в которой человеку открывается его подлинная жизнь. В этой системе любая запись превращается в препятствие для свободного движения духа среди форм [1, c. 267].
Такие способы видения в пространстве можно считать опытом в «третьей реальности». О нем писал Кокто в комментариях к «Орфею». Он соответствует беккетовскому образу Тересия: «Птицы в скалах, Манто умолкает, Тересий слеп». В последнем случае возникает ситуация, в которой слепота ко всему, отсутствие знания о мире открывает мир видимости и пространство внутри себя. Беккет говорит именно о стремлении овладеть взглядом (зрением) в пространстве, которое позволяет просто видеть. Тем самым наблюдатель не стремится «остановить» или «схватить» информационный поток пространства-времени, скорее, он включается в него в качестве части текучего бытия, что исключает возможность идентификации субъекта с образом мира. Это ставит его перед фактом необходимости конструирования мира игровой пустоты, пусть и со своим участием, мира, в котором «невидимый объект» – пустое пространство, место для обнаружения сущности реального. Практика подобного видения сложилась не сразу. Факт обнаружения в ранних системах модерна пространства с непредсказуемыми эффектами, отражающего подлинное в неподлинном мире, потребовал сделать следующий шаг – осознать необходимость контроля за самоорганизующимся «третьим» пространством.
К середине ХХ столетия поиски в этом направлении привели к созданию такой системы интерпретации художественного текста, которая позволяет производить акт «чтения» посредством полной деконструкции смысла, видимого до момента возникновения абсолютно «незаинтересованного действия». Например, теория театра пришла к выводу, что пластический и физический миры театра выражают те состояния, которые невозможно передать словом, так как сам его пространственный язык связывает физический мир с глубинными состояниями мысли. Неслучайно, комментируя теорию Арто, Мамардашвили определял театр как физическую машину, «посредством которой мы снова впадаем не в то, что мы знаем, но в то, чего знать нельзя в смысле владения» [6, c. 335]. Состояние, которое недостижимо произвольным усилием, но возможно в рамках специальной организации пространства и времени, где комбинация многочисленных вещей «случается» и «умирает» в тот же момент.
Во многом такое кризисное ощущение бытия художественного объекта в постмодернистском искусстве – наследие модернистской системы письма, в которой отчетливо проявилось ощущение невозможности соединения мыслимого выраженного с до-вербальным состоянием мысли. Иначе говоря, реальность, скрытая языком, не могла быть им же открыта. Неслучайно Р. Барт отмечал, что трагедия современного письма в условиях существования множественности языков заключена в его крайнем инструментализме, поскольку инструмент выражения более не несет ответственности за письмо и одновременно не в состоянии освободиться от него полностью. В такой ситуации художник вынужден бороться со знаками, а не изображать жизнь.
Очевидно, что критика системы письма, невозможность фиксации данной нам в ощущениях реальности с помощью языка подталкивали к необходимости воссоздания «третьего», свободного от предзаданности означения художественного пространства, в котором через обращение к неявно присутствующим структурам внутри самого рефлектирующего субъекта сможет проявить себя подлинность. Таким образом, текст произведения, возникающий в новом пустом пространстве, а не реальность в ее классическом понимании и есть место для миметического обнаружения сущности реального. Например, Ж. Деррида считал, что разрушение системы подражания в театре Арто связано с тем, что театр – это преставление, жизнь для которого – непредставимое начало, выражение предела метафизики классического театра [3, c. 372–373]. Деррида увидел в теории Арто возможность для «закрытия классического произведения», попытку восстановить закрытое пространство «изначального представления». Специфика такого пространства и состоит в том, что произведение более не организуется из «другого отсутствующего места». Изначальное представление – всегда конец истолкования, т. е. изначальное толкование. С этой точки зрения театр может иметь лишь одну цель – восстановление связи между тем, что есть, и тем, чего нет.
Текст подобного произведения автономен, как и система письма. Он самодостаточен уже в силу своей изначальности по отношению к реальности, в силу отражения подлинного в неподлинном мире «общества спектакля». Именно в акте творчества в рамках симулированной реальности появляется возможность овладеть тем, что еще не существует, чтобы обрести существование. Процесс рефлексии мира посредством такого текста превращается в акт деконструкции: поступательного снятия внешнего через погружение взора внутрь, до того момента, когда появляется «незаинтересованное действие». Естественно, что на этом пути искусство стремится порвать связи со всякой актуальностью, отказавшись от функции разрешения социальных и психологических конфликтов. Его задача «объективно выражать тайную истину, выявлять в открытых жестах скрытые истины, затаившиеся в фор- мах при их столкновении со Становлением» [1, c. 161]. Как отмечал Ж. Деррида, жертвуя уникальным настоящим, мы обретаем в этом случае настоящее как таковое, т. е. чистое различие [3, c. 390–391].
Арто считал, что подобная «метафизика в действии» – путь возвращения мысли к истокам, доведение до предела потенций языка пространства и движения. Анализируя эту позицию, М. Мамардашвили отмечал, что мысль как форма или состояние понимания человеком чего бы то ни было или реализация человеком самого себя в том, что он понял, требует достижения момента полной реализации и осуществления некоего смысла. Трудность существования состоит в возможности или невозможности этого момента, так как факт «схождения всего» имеет и еще один аспект: человек не может в полной мере обладать сошедшимся. Иными словами, «те состояния, которые мы называем мыслью, они, даже если и есть, не поддаются владению или удержанию», в эти состояния нужно впадать всякий раз снова и снова: «Мысль – то, что невозможно, возможная невозможность, то, чего нельзя удержать, нельзя иметь, в это можно только впасть новым сознательным опытом, и так бесконечно. Так это же не поддается изображению!» [6, c. 337].
Подобное понимание ведет к полной автономизации объекта в искусстве, порождая текст текста, театр театра, который позволяет нам достигать определенного состояния в ходе действия, но сейчас и теперь. Рефлексия начинается в момент, когда индивид ощущает свое существование «при мысли о мысли о чем-то незримом» [6, c. 338]. В письме Поверу Жене отмечал, что театральная постановка как ритуал возвращает очарование и близость невидимого, что достигается посредством подобной симуляции: «Спектакль, не затрагивающий душу, напрасен. Он напрасен, если я не думаю о том, что я вижу, или не возвращаюсь к нему после представления, когда упадет занавес, – как будто его никогда не было» [7, c. 47]. Театр и атмосфера театральности – игра, указывающая на то, что она игра, а актер изображает всегда что-то другое по отношению к изображению. По сути, изображение указывает на себя как на то, что изобразить нельзя, поэтому театр – лишь специальная техника, позволяющая по- лучить состояние, которое нельзя иметь. Это разоблачение «чего-то в качестве изображения или чего-то как изображающего нечто такое, что вообще не может быть изображено» [6, c. 337].
Метафизичность театральной практики Арто и Жене снимала проблему «недосуще-ствования» человека в социальном мире. Например, Арто ощущал возможность театра в достижении состояния скрытого бунта, освобождения того, что не нашло себе места в реальной жизни. Именно практика, воплощенная в театральных образах, дает начало поступкам, враждебным обществу [1, c. 117– 118]. В замечаниях о том, как нужно играть пьесу «Служанки», Ж. Жене отмечал, что ее сюжет появился в минуту отвращения к самому себе, «желая определить, кем я был на тот момент и, не признавая этого определения… Я иду в театр для того, чтобы увидеть себя на сцене (воплощенным в одном или нескольких персонажах, в сказочной форме) таким, каким я никогда не буду или не осмелюсь так о себе помыслить и особенно таким, каким я мог бы быть» [7, c. 86–87]. Это понимание творчества обращает рефлектирующего субъекта к интимному опыту, как отмечает Мамардашвили, опыту того, что сам не знаешь и что еще должен ввести в существование, так как мы не обнажаем душу перед другими именно в силу того, что сами бессильны это сделать перед собой [6, c. 340–341].
Саморефлексия театрального текста посредством игры у Арто связана со зрительским опытом открытия себя/в себе «подлинной реальности», скрытой в повседневном опыте существования. Именно эта позиция создала проблему коммуникации между текстом и зрительным залом, с которой на практике столкнулся театр Арто. Жене, напротив, увидел единственную возможность для осуществления желания индивида стать другим, только в условиях, когда он начинает сам играть другого: «Актеры наряжаются и берут на себя роль исполнителей жестов, чтобы иметь возможность показать мне меня самого, показать мне меня самого обнаженным, в одиночестве и ликовании» [7, c. 87]. Снятие этой коммуникативной проблемы стало шагом вперед от аван-гардисткой модели художественного образца к постмодернистскому образцу-посреднику, подменившему реальность в ее неподлинно- сти и неоткрытости, воображаемой подлинностью самодостаточной текстовой структуры.
Так попытка «удержания невозможного» определила экспериментальный характер постмодернистского театра, поиски путей выхода из тупика неадекватности языковой рефлексии в котором привели к осознанию тех возможностей, которые были утрачены классическим искусством. Медитативные функции приняло на себя не театральное слово, а действие и поступок актера, интерпретируемый как личный опыт зрителя. С точки зрения Ж.-П. Сартра именно здесь возникает парадокс коммуникации, когда реальность рефлексивного сознания делает объект воображаемым, а реальность объекта – воображаемой рефлексию. Этот уровень взаимозаменяемости, обретения себя в другом месте возможен только в рамках автономного текста в театральном пространстве.
Пожалуй, самым ярким примером этого стали формы акционного искусства и перформанса, «невидимый объект» в которых, подвергая нашу реальность полной деконструкции, возникает прямо у нас на глазах в момент существования произведения. Представления такого типа позволяют объединить спектакль и зрителя в границах особого пространства, обнажающего перед нами в акте создания объекта искусства проблему бытия до-языка.
Перформанс и художественная акция требуют того, чтобы их смотрели и переживали, поэтому столь редки их искусствоведческие описания и анализ. Причина этого кроется в том, что с позиции внешнего наблюдения, в силу отсутствия содержания и смысла в происходящем, здесь всегда возникает ситуация нахождения в пространстве «третьего рода», в котором внешняя речь служит аффектом, атавизмом потребности нашего рационального ума в произнесении и артикуляции. Нахождение в таком ином пространственном измерении рождает ощущение существования в себе, а не в актуальной реальности. Достигается это с помощью техники импровизации, характерной для игры актера в такого рода представлениях. Ее задача однозначна: высвободить реакции нашего сознания. При этом телесная практика, с помощью которой совершается такого рода «освобождение», требует того, чтобы и тело было освобождено от осязаемой материальности, превратившись в аффективный инструмент ощущения, метафизическое «тело без органов». Таким способом уничтожается определенность, характерное для нашей жизни отношение «Я – Мир», «Я – Другой». Иначе говоря, разрушается традиционная система коммуникации в языке искусства, поскольку акт наблюдения и осознания сводится к бесконечному становлению мысли. Перформанс и акционное искусство рождают болезненное состояние исчезновения себя в художественном пространстве, разочарования в его невозможности. В силу этого на пути описания феноменов подобного рода возникает одна трудность: стремление к незаинтересованному высказыванию, спонтанности действия начисто лишает нас возможности адекватно-содержательно описывать то, что изначально и до момента произнесения находится вне высказывания и языка.
Список литературы Нарцисс, канатоходец, стекольщик: феномен «невидимого объекта» в искусстве ХХ века
- Арто А. Театр и его Двойник/А. Арто. -СПб.: Симпозиум, 2000. -442 с.
- Беккет С. Мир и пара брюк/С. Беккет//Иностранная литература. -М., 2000. -№ 1. -С. 259-265.
- Деррида Ж. Письмо и различие/Ж. Деррида. -М.: Академический Проект, 2000. -495 с.
- Кокто Ж. Петух и Арлекин/Ж. Кокто. -СПб.: Кристалл, 2000. -864 с.
- Кокто Ж. Проза. Поэзия. Сценарии/Ж. Кокто. -М.: Аграф, 2001. -448 с.
- Мамардашвили М. Метафизика Арто/М. Мамардашвили//Арто А. Театр и его Двойник. -СПб.: Симпозиум, 2000. -С. 329-346.
- Театр Жана Жене: Пьесы, статьи, письма. -СПб.: Гиперион; Гуманитарная Академия, 2001. -508 с.
- Уайльд О. Избранные произведения/О. Уайльд. -В 2 т./Сост. Пальцев Н. -М.: Республика. 1993. -Т. 2. -543 с.