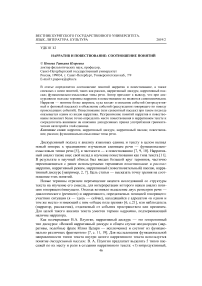Нарратив и повествование: соотношение понятий
Автор: Попова Татьяна Игоревна
Рубрика: Теория текста: функционально-смысловой и коммуникативный аспекты
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье определяется соотношение понятий нарратив и повествование, а также смежных с ними понятий, таких как рассказ, нарративный дискурс, нарративный пассаж; функционально-смысловые типы речи. Автор приходит к выводу, что при дискурсивном подходе термины нарратив и повествование не являются синонимичными. Нарратив - понятие более широкое, куда входят и описание событий (интродуктивный и фоновый пассажи) и объяснение событий (рассуждения говорящего по поводу происходящих событий). Повествование (или секвентный пассаж) при таком подходе оказывается одним из видов нарратива. Разграничение понятий нарратив и повествование позволяет более точно определить место повествования в нарративном тексте и сосредоточить внимание на описании дискурсивных правил употребления грамматических категорий в этой единице.
Нарратив, нарративный дискурс, нарративный пассаж, повествование, рассказ, функционально-смысловые типы речи
Короткий адрес: https://sciup.org/148317702
IDR: 148317702 | УДК: 81`42
Текст научной статьи Нарратив и повествование: соотношение понятий
Дискурсивный подход к анализу языковых единиц и тексту в целом вызвал новый интерес к традиционно изучаемым единицам речи — функциональносмысловым типам речи [5], в частности — к повествованию [7, 9, 10]. Нарративный анализ также внес свой вклад в изучение повествования как типа текста [11]. В результате в научный обиход был введен большой круг терминов, частично пересекающихся с ранее используемыми терминами повествование и рассказ : нарратив, нарративный режим, нарративный (повествовательный) пассаж, нарративный дискурс [например, 2, 7]. Цель статьи — высказать точку зрения на соотношение этих понятий.
Новые термины отразили перемещение акцента исследований со структуры текста на изучение его смысла, для интерпретации которого важен анализ позиции говорящего/пишущего. Отсюда возникло выделение двух регистров речи — диалогического (речевого) и нарративного, определяемых позицией говорящего: участник ситуации (я — здесь — сейчас), находящийся с адресатом «в одном и том же месте» и имеющий с ним «общее поле зрения» [6, с.21], или наблюдатель (нарратор, рассказчик), отделяемый от события пространством или временем. Для целей такого анализа текста уместен термин нарратив , подчеркивающий наличие нарратора.
Как подчеркивает В.А. Плунгян, нарративный дискурс — это гетерогенный тип дискурса: «Всякий нарративный дискурс в общем случае неоднороден (нарративы, подобные фразе Юлия Цезаря — исключение) и состоит из функционально различных фрагментов» [7, с. 11, 19]. Для исследования функциональной направленности типов текста внутри целого нарративного текста используется понятие дискурсивный пассаж . В. А. Плунгян предлагает выделять 5 типов пассажей по их месту и роли в создании нарративного текста: «1) интродуктивный, 46
включающий изложение обстоятельств, предшествовавших началу истории, и вводящий в рассмотрение основных участников истории; 2) секвентный, или консекутивный, включающий обозначение каждого из сменяющих друг друга эпизодов основной линии повествования; именно этот пассаж составляет событийный «скелет» нарратива; 3) фоновый, включающий описание обстоятельств, сопутствующих событиям основной линии повествования, а также второстепенных ситуаций, развивающихся параллельно с событиями основной линии; 4) ретроспективный, включающий описание событий, предшествовавших событиям основной линии повествования; необходимость в ретроспективных пассажах возникает, когда говорящий отступает от хронологически естественного изложения хода событий, мысленно возвращаясь назад, к событиям более раннего временного плана; 5) объяснительный, включающий рассуждения говорящего по поводу происходящих событий, их объяснение или оценку; в работах по анализу дискурса этот тип пассажа чаще всего называется «комментарием» [7, с. 20–21]. Непосредственно повествованием с точки зрения теории функциональносмысловых типов текста является только секвентный пассаж. Именно он отвечает определению повествования как типа текста: «Повествование — функционально-смысловой тип речи … предназначенный для изображения последовательного ряда событий или перехода предмета из одного состояния в другое» [8, с. 288].
Таким образом, термин повествование (секвентный пассаж) используется для обозначения одного из главных структурных элементов, участвующих в построении нарративного текста (нарратива), т. е. его значение. Уже, чем значение термина нарративный текст (нарративный дискурс).
Термин рассказ имеет жанровую природу, определяет малое произведение эпической прозы в художественной литературе или устный рассказ в повседневной жизни. Рассказ — это одна из форм существования нарративного текста. В основе рассказа лежит, по мнению Н. Д. Арутюновой, неординарное событие, отклоняющегося от обычного, рутинного хода жизни: случай, казус, происшествие, приключение [1, с. 83]. Таким образом, рассказ не является синонимом термина нарратив, а характеризует одну из жанровых форм нарратива.
Для характеристики повествования (как типа текста) важен также характер восприятия события субъектом (нарратором). На основании этого параметра разделяются типы повествования: изображение ситуации (изобразительное повествование); осмысление события, включение его в шкалу жизненных ценностей (событийное повествование); информирование о ситуации (информационное сообщение) [10]. Учет этого параметра отражен в понятии регистр, по Г. Н. Золотовой, которая разделяет изобразительный и информативный регистры [4, с. 30– 31]. Учет регистра дает возможность разделить повествование и сообщение на основе их разной коммуникативной цели (изобразить/осмыслить) и четко увидеть различие грамматических средств в их организации.
Таким образом, при дискурсивном подходе термины нарратив и повествование не являются синонимичными. Нарратив — понятие более широкое, куда входят и описание событий (интродуктивный и фоновый пассажи) и объяснение событий (рассуждения говорящего по поводу происходящих событий). Повествование (или секвентный пассаж, составляющий событийный «скелет» наррати- ва) — это один из структурных видов нарратива. Разграничение понятий нарратив и повествование позволяет более точно определить место повествования в нарративном тексте, отграничив от него смежные понятия, и сосредоточить внимание на описании дискурсивных правил употребления грамматических категорий в этой единице [7, с. 15].
Современная проза, с этой точки зрения, дает нам очень интересные образцы текстов, в которых сочетаются различные формы нарратива. Показательными с этой точки зрения являются романы, включающие в себя документальные автобиографические истории, например, романы Михаила Шишкина «Венерин волос», Светланы Алексиевич «Время секондхэнд», Антона Понизовского «Обращение в слух» и др.). Нарративный анализ дает возможность выявить механизмы преображения документального рассказа в часть художественного текста .
Естественным включением документального рассказа в ткань художественного текста является его композиционное выделение в отдельные главы. Так, в основе романа Антона Понизовского «Обращение в слух» лежат житейские истории реальных людей, специально записанные автором на рынке и в больнице. Эти истории составляют композиционный стержень романа, выделены в отдельные главы, включающие в название жанра — рассказ кого, рассказ о чем: «Рассказ незаконнорожденной», «Рассказ о матери», «Рассказ об экстравагантном прыжке» и т. д. Эти главы представляют собой перволичное повествование (включающий, секвентный пассаж) в репродуктивном регистре.
За каждой главой-житейской историей идет глава-интерпретация. Названия этих глав включает позицию либо героя-интерпретатора, либо позицию автора: «Тунезейский квартет», «Пошло», «Заточка и кувыркучесть», «Жечки и мучики» и др. Эти главы представляют собой интерпретацию событий, поступков, изложенных в главах-рассказах. Они написаны с использованием диалогического режима и объяснительных пассажей.
Чередование житейских историй и их интерпретаций является не только структурным приемом, но и смысловым: главы вступают между собой в диалогические отношения, причем эти отношения носят явный полемический характер. Герои-интерпретаторы полемизируют как с героями житейских историй, так и между собой (герои-протагонисты Федор и Дмитрий Всеволодович).
Нарративный анализ предполагает включение в исследования параметра точки зрения — героя, повествователя, автора. Первый пласт — соотношение речи героя — рассказчика (в данном романе речи авторов житейских историй и речи их интерпретаторов) выявляет один из механизмов преображения документального рассказа в часть художественного текста, а именно, полемический повтор чужого слова. «Чужое слово» (житейские истории), многократно употребленное в трактовках интерпретаторов — героев романа, становится маркером ценностных координат героев. Употребленные в изобразительном повествовании в речи героя-рассказчика слова с предметным значением (например, заточка, кувырку-чие ) становятся названием глав-интерпретаций (например, « Заточка и кувырку-честь »), приобретая при этом оценочные коннотации. То, что в речи героя-рассказчика воспринимается как яркое событие прошлого (например, драка в районном центре, куда герои поехали на трех «МАЗах» за водкой), в речи интерпретаторов оценивается как дикость. Ср. житейская история и ее интерпретация:
«И я не отсюда выхожу, а вокруг дома — гляжу, о-о-ой! У них уже потасовка! Брата моего двое бьют! И один как раз вытаскивает из сапога то ли отвертку, нож, что ли, или заточку — что там раньше было у пацанов ... Тут уж я, конечно, как заорала — бутылки две в одной руке, монтировка в другой руке: «А-а!!! кричу матом, — поубиваю всех!!!»<...> Вот такая была у нас эпопея. Но брату жизнь, может быть, и спасла ...»; «- Ну хоть какой-то минимум понимания ... я не знаю, гражданского, что ли ... хотя бы проблеск какой-то! Ведь это взрослая женщина говорит: ей уже не четыре года, наверно? Может она в своей голове понимать, что это безумие абсолютное: трехлетние дети в двадцатом веке таскают сено, коров доят руками … пещерная жизнь!.. Поножовщина — вы правы, Лёлечка: просто нормальное бытовое явление! Может человек посмотреть и сказать: бог ты мой, в чём же мы все живем?! Хоть один человек?..» (Понизовский А. «Обращение в слух», 2013).
Полемический повтор чужого слова, его интерпретация, критическая оценка приводит героев романа к разобщению. Однако в конце романа главный герой Федор приходит к пониманию того, что «истории, которые нам рассказали, вообще все эти люди — такое богатство. <^>А мы их не слышали. Мы их перебивали, пытались их интерпретировать, объяснять. Мы жалели их. А я теперь думаю: может быть, даже не надо сразу жалеть. Чуть позже: жалеть, возмущаться, сочувствовать — но сначала услышать. Такими, как есть.
Это самое важное: не такими, как хочется, не придуманными — а такими как есть. Просто слушать. Заставить себя замолчать» (Там же).
Таким образом, с точки зрения анализа речи героев и рассказчика, композиционный прием чередования перволичного повествования о событиях и их интерпретации в романе Антона Понизовского «Обращение в слух» становится отрицанием самого себя и утверждением ценности перволичного повествования. Обнажение приема полемического повтора, многократно используемое в романе, служит проявлению гуманистического смысла романа и его осознанию читателем.
Включение точки зрения автора позволяет посмотреть на смысл романа в другом ракурсе. Интерпретируя интертекстуальные связи названий глав романа, А. Куник приходит к выводу, что роман Понизовского нельзя оценивать в системе реалистического романа, роман «постмодернистский, весь пронизанный игрой», «автор почти пародирует как идеи Федора, так и его оппонента» [3]. Следовательно, полемический повтор в речи героев-интерпретаторов накладывается на интертекстуальный повтор автора, вписывающего его в мировое литературное пространство, и в этом смысле повтор чужого слова в романе Понизовского остается основой приращения коннотативных смыслов.
Таким образом, при анализе повествовательных форм в нарративе необходимо учитывать множество факторов: их место и роль в создании нарративного текста, соответствующий характер регистра, принадлежность к субъекту повествования и его роли в создании художественного целого. Форма повествования обусловлена этими факторами, имеющими, несомненно, дискурсивную природу.
Список литературы Нарратив и повествование: соотношение понятий
- Арутюнова Н. Д. Аномалии и язык // Язык и мир человека. М. : Языки русской культуры, 1999. С. 74–91.
- Кибрик А. А. Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов // Вопросы языкознания. 2009. № 2. C. 3–22.
- Куник А. Игры Антона Понизовского [Электронный ресурс] // Новый берег, 2013,
- URl: www.zh-zal.ru/bereg/2013/41/19k.html (дата обращения 06.03.2019).
- Золотова Г. Н., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М. : Филологический ф-т МГУ, 1998. 528 с.
- Нечаева О. Л. Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение). Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1974. 262 с.
- Падучева Е. В. Эгоцентрические единицы языка. 2-е изд. М. : Издательский Дом ЯСК, 2019. 440 с.
- Плунгян В. А. Предисловие: Дискурс и грамматика // Исследования по теории грамматики. Вып. 4. Грамматические категории в дискурсе. М. : Гнозис, 2008. С. 7–36.
- Трошева Т. Б. Повествование // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожиной. М. : Флинта : Наука, 2003. 696 с.
- Функционально-смысловые единицы речи: типология, исходные модели и принципы развертывания / под общ. ред. К. А. Роговой. СПб. : Златоуст, 2017. 320 с.
- Коньков В. И., Неупокоева О. В. Функциональные типы речи : учебное пособие. М. : Академия, 2011. 224 с.
- Шмид В. Нарратология. М. : Языки славянской культуры, 2003. 312 с.