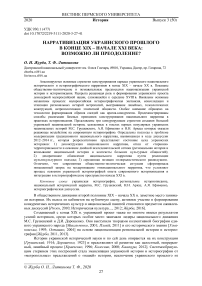Нарративизация украинского прошлого в конце Х1Х - начале ХХ1 века: возможно ли преодоление?
Автор: Журба О.И., Литвинова Т.Ф.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Статья в выпуске: 3 (50), 2020 года.
Бесплатный доступ
Анализируются основные стратегии конструирования каркаса украинского национального исторического и историографического нарративов в конце XIX - начале ХХ в. Показаны общественно-политические и познавательные предпосылки национализации украинской истории и историописания. Раскрыта решающая роль в формировании украинского проекта домодерной малороссийской нации, сложившейся к середине ХУШ в. Выявлены основные механизмы процесса: малороссийская историографическая экспансия, консолидация и этнизация региональных историй метрополий, выстраивание линейных, телеологических конструкций, антропологизация этнической общности. Особое внимание обращено на технологии формирования образов соседей как врагов-конкурентов. Продемонстрированы способы реализации базовых принципов конструирования национального нарратива в практиках историописания. Представлены три конкурирующие стратегии создания большой украинской национальной истории, заложенные в текстах первых популярных украинских национальных историй М.С. Грушевского, А.Я. Ефименко и Н.Н. Аркаса которые оказали решающее воздействие на современную историографию. Определены подходы к проблеме модернизации традиционного национального нарратива, выявившиеся в ходе дискуссии 2012-2014 гг., которая репрезентативно представляет состояние цеха украинских историков: 1) деконструкция национального нарратива, отказ от «тирании» территориальности и освоение двойной исследовательской оптики (региональная история и вписывание национальной истории в контексты больших культурных общностей); 2) декоративное обновление национального нарратива путем реализации мультикультурного подхода; 3) серединная позиция «плюралистического равнодушия». Отмечено, что современная общественно-политическая ситуация сформировала повышенный запрос на модернизацию этнонационального нарратива, что усложняет процесс освоения украинской историографией опыта современного историописания и интеграцию в историографическое пространство начала XXI в.
Украинская историография, региональное историописание, национальный исторический нарратив, м.с. грушевский, н.н. аркас, а.я. ефименко, историографическая дискуссия
Короткий адрес: https://sciup.org/147246320
IDR: 147246320 | УДК: 930.1 | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-3-27-41
Текст научной статьи Нарративизация украинского прошлого в конце Х1Х - начале ХХ1 века: возможно ли преодоление?
В общественном движении второй половины ХIX – начала ХХ в. заметное место занимали историки. Их выход из кабинетов на публичную сцену, активное участие в формировании конкурентных исторических культур и национальный памятей становится предметом оживленных дискуссий [ Рюзен , 2010; Историческая культура…, 2012; Журба , 2016].
Создаваемый с конца ХIX в. украинский проект также во многом явился результатом усилий историков, среди которых особое место занимали лидеры национального движения М.С. Грушевский и Д.И. Дорошенко. Они выступили творцами коллективной биографии единого украинского народа [ Михальченко , 2001; Плохій , 2011] и его исторического знания [ Улья-новська , 1993; Осташко , 2004] на основе национализации региональной истории и историографии [ Журба , 2011, 2013].
Истории украинской исторической науки и по сей день опираются на их конструкции [ Грушевский, 1914; Дорошенко, 1923] и представляют её развитие как целостный, непрерывный, линейный процесс [ Кравченко, 1996; Колесник , 2000; Калакура, 2012]. Системообразующим стержнем этих построений стала эмансипация украинской истории и историографии от «метропольных» представлений о «нашей» истории, исключение украинского прошлого из
контекстов русской, польской и других историй и, наоборот, представление украинской истории и историографии как самодостаточных явлений, органическое развитие которых тормозилось извне. Такое понимание предмета, а также наличие в культурной традиции Польши, России, Германии толстых томов национальных историй стимулировали запоздалый старт украинского национального нарративов.
Эта традиция закрепилась в советском и постсоветском историописании [ Касьянов, То-лочко , 2012, с. 17]. Её яркой визуализацией стали современные атласы, где пространство украинских территорий нередко представлено без политических образований, в состав которых они входили. Несмотря на высказываемые по этому поводу критические замечания, в настройке исследовательской оптики до сих пор доминирует образ «глобуса Украины», который конкурирует с методологическими близнецами – «глобусами» России и Польши [ Литвинова , 2013].
Такие подходы откровенно геттизируют представления о прошлом, а украинская история приобретает эксклюзивный характер. Это касается и историографии, которую интересуют преимущественно украинские историки, пишущие об Украине и для украинцев. Причем культивируется страдательный образ украинского историка имперского времени [ Верменич , 1997, с. 4; Ващенко , 1999, с. 8, 73].
Генезис украинской национальной общественной мысли связывают, как правило, с древнерусской традицией. Между тем она начинала формироваться с середины ХІХ в. в текстах ки-рилло-мефодиевцев, с оформления образа модерной нации, критериев её выделения и пространственных очертаний. На профессиональном уровне проблемы украинской истории стали разрабатываться только со второй половины XIX в. прежде всего как проблемы региональной истории империй.
Справедливо считается, что лавры создания каркаса украинской истории принадлежат М.С. Грушевскому [ Грушевский , 1904]. Его обоснование в многотомной «Истории Украины-Руси» выполняло важную миссию легитимации проекта модерной нации. Однако элитарный, узкопрофессиональный характер работы, ее объем, особенности стиля и языка существенно сузили круг читателей, а значит, и влияние на формирование массовых представлений. В этом случае более важным оказался сам историографический факт, чем его содержательное наполнение.
Главную же роль в конструировании образа украинской национальной истории и в его восприятии в массовом сознании сыграли популярные исторические нарративы, которые массовыми тиражами издавались в начале ХХ в. в Петербурге [ Грушевский , 1904; Ефименко , 1906; Аркас , 1908].
Как известно, во второй половине XVIII в. Россия и Австрия объединили настолько разные регионы, что весь XIX в. пошел не только на их интеграцию в имперские структуры, но и на взаимное ознакомление, межрегиональное взаимодействие, на конструирование из разрозненных исторических памятей базовых элементов представлений об общем прошлом, настоящем и будущем. О том, насколько хрупкими оказались результаты свидетельствует и то, что и в начале XXI в. региональные особенности порождают острые проблемы.
Исторические представления об общей истории и сегодня сегментированы как методологическими различиями, так и идеологической, политической, региональной спецификой. Поэтому вряд ли можно говорить о консенсусе относительно нарративизации истории Украины. И сейчас имеем не единственную, а несколько конкурирующих национальных памятей и соответствующих нарративов [ Касьянов , 2018].
Адекватному пониманию процесса не способствует также некритическое восприятие постколониального подхода. Комплекс неполноценности, униженности как неотъемлемый компонент национализации появился лишь с середины XIX в. в качестве инструмента легитимации претензий на эксклюзивность. Народнические эмансипаторские устремления привели к конструированию образов гипертрофированных народных страданий, которые оформились в теориях безгосударственной, безэлитной, исключительно мужичьей нации и ее особенного исторического пути. На пьедестале национальной мифологии главного исторического героя предшествующего периода, воинственного казака, оттеснял глубоко несчастный гречкосей.
Предпосылки национализации представлений о «своей» истории начинают формироваться в 1810-1830-е гг., когда высшие ступени в иерархии самосознания робко стала занимать эт- ническая идентичность, осторожно конкурируя, соединяясь и переплетаясь с региональным, административно-территориальным и государственным патриотизмом.
Абсолютным лидером таких сдвигов на украинской почве стала Левобережная Украи-на/Малороссия1, обладавшая самой этнически гомогенной социальной элитой. Только в этом регионе до середины XVIII в. сложилась полноценная домодерная нация2, политическая, социально-экономическая и духовно-культурная самодостаточность которой легитимизовалась в том числе историографическими средствами [ Журба , 2004]. Бурное прошлое этой нации вызывало к жизни образы и тексты, закрепленные в рамках мощной историко-литературной традиции [ Бовгиря , 2010; Дзира , 2006].
Уже к середине XIX в. ключевые исторические регионы смогли отлить свою историческую память в форму текстов. Малорусская история была представлена трудами Д.Н. Бантыша-Каменского и Н.А. Маркевича, новороссийская - архиепископа Гавриила и А.А. Скальковского, галицкая - Д.И. Зубрицкого. Прошлое Слободской Украины попытался синтезировать И.И. Квитка, история Волыни была составлена Н.И. Петровым. История Закарпатья вписывалась прежде всего в региональное прошлое Венгрии. Все эти работы были вызваны к жизни как состоянием профессиональной разработки местной истории, так и значимыми общественными запросами. Большинство этих текстов стало заметным явлением общественной мысли, оказывало влияние на формирование региональных идентичностей.
Однако именно малороссийская элита определяла языковой стандарт, общественную и культурную проблематику, конструировала историческую память, которая активно «навязывалась» другим регионам. Этот процесс был определен как малороссийская историографическая экспансия, или же «малорусификация» [ Журба , 2011, 2015; Толочко , 2012]. Конечно, она порождала и взаимодействие региональных культур, в том числе их исторических представлений.
С начала процесса национализации малороссийский способ осмысления и представления «своей» этнонациональной истории претендовал на расширение собственных границ, разрушая представления о пределах традиционной гетманской Малороссии. Причем в тех регионах, где преобладала польская элита, малороссийская экспансия шла рука об руку с усилиями власти. Ярким примером этого явилась Киевская археографическая комиссия, в составе которой доминировали представители малороссийской интеллектуальной элиты [ Журба , 1993]. Своеобразными путями малороссийские исторические представления перерабатывались галицкими русинами, усилиями которых прошлое Гетманщины и Запорожья постепенно становились частью «своей» истории [ Куций , 2006]. Якорем, которым к общей этнической истории прикреплялось Северное Причерноморье, признавалось прошлое запорожских казаков. А история Слобожан-щины удерживалась в этой орбите еще живой памятью о близком родстве и тесном хозяйственном взаимодействии регионов.
Активными игроками в процессе национализации оказались польский и русский нацио-нализмы, в борьбе между которыми использовались базовые элементы исторической памяти «наших» регионов. Историческая легитимация империи на основании «православия, самодержавия, народности» становилась опорой для поиска новой, этнической, самоидентификации малороссийства, а «украинизация» кресов в польской литературе 1830–1850-х гг. вызвала генезис хлопоманских настроений среди части польской молодежи. Проще говоря, догоняя интеллектуальный мейнстрим, малороссийская элита вынуждена была включаться в поиски новой этнической легитимации своей самобытности.
Одним из наиболее эффективных механизмов решения этой задачи стало создание каркаса национального нарратива как результата редукции региональных исторических памятей к единому историческому процессу гомогенного этнического массива. И, хотя конструирования малороссийского этнического нарратива так и не произошло, возникновение представлений о малороссийском народе от Карпат до Кубани создало условия для «украинизации» малороссийской истории. М.С. Грушевский и его последователи путем простой замены исторических «Малороссии» и «малороссиян» на идейно желанных «Украину» и «украинцев», игнорируя способы региональной самоидентификации, превратили «прежних изыскателей малорусской старины» второй половины XVIII - начала XIX в. (Г. и В. Полетик, О. и Я. Марковичей, А. Мартоса, В. Ломиковского, Ф. Туманского, А. Чепу), а также М.А. Максимовича, Д.И. Зубрицкого, А.М. Лазаревского и многих других в деятелей украинской науки, образова- ния, культуры. Технологии национализации региональной истории последователями М.С. Грушевского продемонстрировал В.В. Ададуров [Ададуров, 2005]. Историографическая инерция позволяет и современным историкам игнорировать особенности домодерной малороссийской идентичности и представлять её как этап «украинского национального возрождения» [Плохій, 2013в, с. 387].
Задачи конструирования украинского взгляда на прошлое решали тексты, принадлежащие перу М.С. Грушевского, А.Я. Ефименко и Н.Н. Аркаса. В начале 1990-х гг. все они были включены в академическую серию «Памятники украинской исторической мысли» [ Грушевский , 1991; Ефименко , 1990; Аркас, 1990] (далее ссылки на эти издания. - О.Ж., Т.Л .). Ориентированные на широкую аудиторию, эти книжки были, тем не менее, адресованы разным потребителям. Работы М.С. Грушевского и А.Я. Ефименко создавались для подготовленного читателя, а отставной офицер Н.Н. Аркас ориентировался на широкую малообразованную публику. Это повлияло на способы изложения, стиль, художественные приемы и характер аргументации. Авторов объединяло стремление представить биографию народа как целостный, непрерывный процесс, берущий свое начало в глубине веков.
Важным приемом реализации такой стратегии стало признание факта «вечного» существования украинского народа, а также дистанцирование от «не нашего» прошлого и формирование национальной истории путем выстраивания представлений о соседях и характере взаимоотношений с ними.
Первым в этом ряду был «Очерк истории украинского народа» М.С. Грушевского 1904 г. О его востребованности свидетельствуют переиздания 1906, 1911, 1913, 1990 гг. В 1911 г. вышел украиноязычный вариант очерка под названием «Ілюстрована історія України», который воспроизводился в 1912, 1913, 1990, 2016 и 2019 гг.
Концептуально определяя содержание истории Украины под властью Польши и России в XVI–XVIII вв., историк представлял ее как «историю борьбы народа с ненавистным общественным и экономическим строем, которая стремится к свержению его и реформе общественных отношений согласно народным идеалам общественной справедливости». Умеренно используя приемы беллетризации, автор в целом оставался в рамках профессиональной лексики, минимизируя гиперболизацию и эмоциональную окраску текста.
Вместе с тем М.С. Грушевский не скрывал идеологической направленности работы. Он настойчиво формировал представление об украинцах как жертве соседей, регулярно нарушавших органичность их жизни. Так, притязания на инкорпорацию Волыни, выдвинутые польской стороной во время Люблинского сейма, названы планами «насильственного осуществления вековых стремлений польской политики», а её последствия – польским «захватом» [c. 116]. В определении причин войны Б. Хмельницкого историк солидаризировался с казацким летописцем конца XVII в. и сводил их к тотальному ухудшению положения народа под польским гнетом [c. 178].
В отличие от поляков Россия представлена менее жестко, и не столько как агрессивная сила, сколько как игрок, неосторожно вовлеченный в конфликт самими повстанцами. В целом же, усиливая сочувствие к народу-жертве, историк подчеркивал: «Со всех сторон жадно сторожили соседи-враги, пользуясь всяким расхождением, всяким затруднительным положением..., чтобы раздуть смуту и использовать её для себя» [c. 203].
Итак, М.С. Грушевский, сохраняя профессорскую респектабельность, представлял украинское прошлое как сложное переплетение политико-правовых, социально-экономических и духовно-культурных процессов, как столкновение традиционного образа жизни и внешних факторов, рассматриваемых в контексте национального противостояния.
Другой тон, стиль и подходы присущи А.Я. Ефименко. Впервые её «История…» была напечатана в 1906 г. По наблюдениям А. Каппелера, рукопись была готова еще в 1899 г., то есть за шесть лет до работы М.С. Грушевского [ Каппелер , 2010]. Текст переиздан в Киеве в 1990 г., сокращенный вариант публиковался в Санкт-Петербурге в 1907 г., а в Москве – в 2013 и 2016 гг. Как видим, и здесь долгая и стабильная популярность.
Несмотря на то что история украинского народа показана как самостоятельный процесс, она представлена в традициях костомаровской теории двух русских народностей: «Русская история как наука должна состоять из двух самостоятельных и параллельных частей: из истории
Северо-Восточной, или Московской Руси, и из истории Руси Южной и Западной, или Литовско-Польской» [c. 6]. Актуальность освоения украинской и белорусской историй была поставлена в сравнительный контекст истории Европы [c. 7]. Именно изучение Литовско-Польской Руси, по мнению А.Я. Ефименко, должно подвергать сомнению взгляд на общероссийскую историю как уникальную, резко противопоставленную истории остальной Европы. Такой подход определил и взгляд на соседей, взаимоотношения с которыми воспринимались как нормальные, заслуживающие спокойного, академического изучения. Эти исходные позиции позволили наметить своеобразный стиль и характерные оценки.
Одной из важных черт подходов А.Я. Ефименко стало пристальное внимание к социально-экономическим проблемам, признание их приоритета в конструировании нарративных стратегий. Кроме того, она отказалась от рассмотрения «украинского народа» как монолитного, гомогенного образования, настойчиво подчеркивая, что при всей этнической общности Южная Русь «...представлялась далеко не однородной в иных отношениях» [c. 160]. А.Я. Ефименко выделяла линии социального, хозяйственного, общественно-политического, регионального, религиозного размежевания «южноруссов», пытаясь понять и передать всю их сложность и взаимозависимость. По сути, она поставила, актуальный и сегодня вопрос о внутреннем соседстве, о взаимодействии, противоречиях и конфликтах в «украинском мире».
Авторская позиция определила и приемы описания. Так, в Люблинской унии историк не был склонен видеть исключительно негативные последствия. Уния, по её мнению, привела к консолидации Южной Руси, которая «впервые выступает в качестве исторического деятеля» [c. 160]. Вместе с тем разрушение «искусственных перегородок» между украинскими землями усилило влияние Польши, «вторгшееся теперь в Южную Русь и стремившееся охватить жизнь ее со всех сторон» [c. 173]. Но, как отмечала А.Я. Ефименко, почва для такого усиления была подготовлена самим внутренним развитием общества.
Особенно подчеркивалось значение этого давления на духовную жизнь: «Раскрыв настежь ворота влиянию Польши вообще, Люблинская уния раскрыла их вместе с тем и тому острому ветру религиозного свободомыслия, который дул с Запада...» [c. 173]. А в связи с этим «сама по себе мысль религиозной унии… представлялась довольно естественной» [c. 180].
Словно избегая дихотомии простых ответов на сложные вопросы, А.Я. Ефименко, хотя и констатировала «факт необычайной быстроты культурно-хозяйственного подъема Украины» под польским влиянием, все же отмечала, что «сама напряженная быстрота этого подъема как бы намекает на его нездоровый, искусственный характер» [c. 192].
Дискутируя по поводу причин казацких восстаний, она иначе подошла к проблеме социального угнетения: «Вопрос шел не о притеснениях - о притеснениях со стороны пана пока не могло быть и речи, - вопрос шел о праве, которое различно понималось сторонами» [c. 192]. Исторический процесс во второй половине XVI - первой половине XVII в. представлялся как сложное глобальное взаимопроникновения польского и украинского культурного опыта. Признавая неравенство сторон в этом обмене, А.Я. Ефименко все же воздерживалась от инвектив в сторону Польши, возлагая и на другую сторону долю ответственности за кровавую войну.
Отказ от эмоциональных оценок тем более характерен для восприятия Московского государства, опирающегося на понимание правовых и общественно-политических реалий его функционирования. Несмотря на глубокие разногласия сторон во время Переяславской рады, ее решения оценены как «великий акт соединения двух русских народностей со всеми его громадными последствиями для обеих соединившихся частей» [c. 249].
Угасание Гетманщины показано не как катастрофа, результат коварных замыслов внешних сил, а как естественный процесс модернизации архаичной политико-правовой системы. Важно отметить, что история не сводилась к прошлому казацких автономий, а представлялась во всем многообразии региональных и социальных особенностей.
В целом работе А.Я. Ефименко присущ отказ от обвинительного или адвокатского пафоса, попыток инструментализировать прошлое. Автор попытался приблизить публику к пониманию эпохи и её социально-культурной обусловленности.
Оригинальная интерпретация «длинной истории» была предложена Н.Н. Аркасом. Уникальность его судьбы заключалась в том, что, не будучи историком, он абсолютно адекватно относился к своему труду, рассчитывая на внимание самых широких масс. Такая стратегия обеспечила Н.Н. Аркасу безусловное первенство в борьбе за читательский спрос. Вот что в декабре 1908 г. писал библиотекарь одесского украинского общества «Просвита»: «Когда я пересмотрел книгу, то увидел, что автором сделано все, чтобы содержание книги легко, быстро и надолго западало в голову читателя... Можно думать, что "История" будет полезной… для каждого украинца. Потому что сейчас мы такой истории не имеем. Возьмите Грушевского – большую, в пяти томах - к ней боятся подходить. "Очерк истории украинского народа" мог бы сыграть некоторую роль, но написано тяжело и отбивает охоту к чтению... С "Историей" Ефименко - еще хуже» [Сарбей, 1900 b, c. 22].
Историк В.А. Беднов свидетельствовал о тому, как быстро распространялась книга Н.Н. Аркаса среди рабочих и крестьян Екатеринославщины, как она производила «везде чрезвычайно большое впечатление на своих читателей», пробуждая национальное сознание. Более того, в такой ситуации научный характер исторических трудов признавался вообще излишним, так как «не научность захватывает гражданство, а нечто другое, противоположное» [ Біднов , 1920, с. 44].
Киевский книготорговец В. Степаненко летом 1908 г. информировал Н.Н. Аркаса: «Радую Ваше сердце, что продали Ваши истории. Забирают ее на Вкраину, в Московию, в Галичину, Америку, даже и Швейцарию - хорошо идет, аж дух радуется. Сегодня отправлено в Америку 50 штук в переплетах» [ Сарбей , 1900 а, с. 100-113].
Такому громкому успеху способствовали не только полная свобода от академических конвенций, но и в значительной степени беллетризированный стиль, популистские приемы, дихотомия в представлении социальных и национальных противоречий. Свидетельством успеха Н.Н. Аркаса стала резкая, даже болезненная, реакция М.С. Грушевского.
В аркасовой истории соседям была отведена роль откровенно враждебных сил, образ которых призван поляризовать прошлое, в котором «нашей правде» противостояла «их ложь». Взаимодействие украинцев с поляками, турками, татарами, евреями, русскими представлялось почти всегда как конфликт, вражда, несправедливость по отношению к «нам».
Об уровне аргументации можно судить по описанию Украины перед восстанием Б. Хмельницкого: «Теперь же шляхта добилась всего того, о чем раньше только мечтала: завладела всеми землями в крае, а кроме того казаков превратила почти что всех в крепостных. За те десять лет почти вся шляхта украинская ополячилась и вместе с чисто-польской шляхтой весь народ превратила в крепостных... Тем временем на Украине все больше становилось ляхов и жидов, ксендзов, костелов и кляшторов (монастырей) католических. Польская шляхта без меры начала теснить народ православный: целые села поотдавала в аренду жидам, детей казацких в котлах варили, женщинам вырезали груди, засыпали мужчинам порох за пазуху и поджигали» [ Аркас , 1990, с. 160-161].
Эксплуатируя исторические стереотипы, сложившиеся в массовом восприятии, нанизывая их на схему М.С. Грушевского, Н.Н. Аркас создал боевой пропагандистский текст. Как представляется, он заложил традицию одного из самых устойчивых и популярных направлений в репрезентации украинской истории. Она оказалась весьма востребованной и в цехе профессиональных историков, относящихся к своему ремеслу как к идеологическому оружию.
Одновременное появление в начале ХХ в. первых украинских популярных нарративов означало осознание значения публичной истории для формирования общественного мнения, конструирования исторической памяти, включение такого рода деятельности в арсенал исторической политики. Это знаменовало движение профессионального и любительского историопи-сания навстречу друг другу и духовным запросам массовой аудитории, стремительно растущим благодаря широкой грамотности и активному вовлечению масс в общественные процессы. Рассмотренные тексты, несмотря на их архаичность, и сегодня продолжают играть важную роль в формировании каркаса исторической культуры украинского общества, в определении стратегий репрезентации и восприятия национального прошлого.
Использование предложенной А. Мегиллом типологии историописания [ Мегилл , 2007, с. 97-99] позволяет заметить, что тексты М.С. Грушевского и Н.Н. Аркаса соответствуют ее аффирмативным и дидактическим сегментам, которые ориентируют историографию на создание проектов, волнующих современное общество, конструирующих желаемую историческую память.
Особое место в ряду популярных национальных нарративов занимает работа А.Я. Ефименко, приближенная к аналитической историографии. Пытаясь разобраться в сложностях и противоречиях исторического процесса, она представляла соседей как равноправных акторов, имеющих собственную логику, мотивацию и алгоритмы действий. История украинского народа для нее – не череда страданий, а сложный процесс культурного освоения огромной территории, в котором соседним народам отведена важная роль.
А.Я. Ефименко, как нам кажется, старалась не угождать публике, а учить её рассуждать, не предлагала готовые ответы, а ставила сложные вопросы, не закрывала, а открывала новые горизонты познания украинской истории. К сожалению, такая позиция оказалась мало востре-бованной3. Книга А.Я. Ефименко прошла почти незамеченной в потоке работ в области аффир-мативной и дидактической историографии, на каждом драматическом витке истории озабоченной поисками новых соседей-врагов. Предложенный ею подход оказался чуждым идеологизированному мейнстриму украинской историографии ХХ - начала XXI в., в рамках которого оте-чественнвя история не могла стать предметом нормального научного рассмотрения.
***
И сегодня конструирование украинского национального нарратива осознается как один из важнейших общественных и научных вызовов, стоящих перед историками. Именно поэтому на страницах главного исторического журнала страны развернулась небывалая для современной украинской историографии дискуссия. Она заслуживает отдельного рассмотрения как достаточно репрезентативное явление для понимания состояния и путей развития украинской историографической культуры. Полемику открыл директор Института истории Украины [ Смолій , 2012, с. 4–5], призвав высказаться по поводу проекта создания новой многотомной «Истории Украины». С этого времени каждый выпуск журнала (6 раз в год) вплоть до второго номера за 2014 г. открывался большой статьей на означенную тематику. В полемике приняли участие киевские, львовские и зарубежные ученые. Институт истории представляли академик В.А. Смолий, член-корреспондент А.П. Толочко, доктора наук Г.В. Касьянов, Я.В. Верменич, С.В. Виднянский, А.Ю. Мартинов, кандидаты наук А.В. Ясь и О.Н. Горенко. Институт украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского «делегировал» доктора наук В.А. Потульницкого, а Институт политических и этнонациональных исследований – доктора наук О.М. Майбороду. От Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова выступал кандидат наук К.Ю. Галушко, а от львовских историков – профессор Украинского католического университета В.В. Ададуров. Дискуссия вызвала живой отклик профессора Гарвардского университета С.Н. Плохия и професора Торонтского университета П.Р. Магочия.
На каких бы позициях не стояли дискутанты, для всех чрезвычайно значимым оказался сам факт призыва к конструированию нового национального нарратива. Симптоматично, что дискуссия пришлась на переломное для судьбы современной Украины время. Нечто подобное можно было наблюдать в конце XVIII – начале XIХ в., когда создание новой отечественной истории, преодолевающей ограниченность бароккового казацкого историописания, осознавалось одной из важнейших национальных задач малороссийской элиты, а также на рубеже XIХ и ХХ вв., когда в первых украинских популярных историях региональное прошлое инкорпорировалось в картину жизни многовековой нации.
Тон дискуссии задала статья А.П. Толочко и Г.В. Касьянова, вокруг ключевых положений которой и развернулось обсуждение. Как отмечали авторы, их текст был адаптированной версией аналитической записки, подготовленной для рабочей группы Института истории, созданной в 2010 г. с целью разработки концепции многотомной «Истории Украины». В статье кратко представлены генезис национального способа описания прошлого и порожденные им методологические проблемы, механизмы конструирования и деконструкции национальных историй, предложены пути преодоления ограничений указанного способа исторического мышления в мировой историографии и возможности приложения этого опыта к отечественному материалу.
Авторы обозначили основные особенности национальных историй: телеологичность, этноцентризм и культурную эксклюзивность, радикальную реверсивность, запрограммированную неполноту знания, линейность, беспрерывность и однонаправленность. Подчеркивалось, что «самый очевидный выход за рамки национального и писания истории ненациональным спосо- бом – отбросить тиранию территориальности, т.е. географических рамок современных наций-государств, сформированных в новейшее время и проектированных на прошлую "реальность", пространственно-географическая организация которой была совсем иной». Подобная цель достигается «двумя противоположными способами - близким (т.е. сосредоточением на исторических регионах) и далеким (т.е. вписыванием национальной истории в контекст больших общностей и культурных сообществ) фокусами» [Касьянов, Толочко, 2012, с. 14].
В качестве примера были представлены разнообразные «кембриджские истории» («Кембриджская история Скандинавии», «Кембриджская история Средневековья»). Построенный по проблемно-тематическому принципу с учетом синхронной территориальной организации политических образований, этот проект утвердил в западной историографической культуре стандарт писания больших коллективных трудов.
С А.П. Толочко и Г.В. Касьяновым солидаризировались и другие участники дискуссии. В.В. Ададуров отмечал, что «интегрировать украинское прошлое во внеэтнические контексты невозможно без его выведения из "крепостных оборонных укреплений", в которые его завела линейная схема, воплощенная в синтезе М. Грушевского». По его мнению, «сегодня эта …схема стала парадигмой отгораживания от мира, обманчивого самовнушения, самоуспокоения, которые под лозунгом сохранения этнокультурной традиции прикрывает все большее отставание исторических знаний от мирового тренда…» [ Ададуров , 2013, с. 16].
В. В. Ададуров видел выход в поиске широких типологических моделей исследуемых явлений, таких мегаструктур, как готика, рококо, …национализм, социализм, шляхетство, колонизация и т.д. Такой подход «позволит достаточно эффективно преодолевать узкие, линейные по своему характеру, вертикальные схемы, заменяя их широкими моделями горизонтального характера» [ Ададуров , 2013, с. 19]. Прорывы возможны также благодаря профессионализации процедур исследования, в соответствии с которой «историку следует исходить не из схемы или концепции истории, заданной его принадлежностью к той или иной этнокультуре, а делать выводы лишь после осмысления всего многообразия источников, в том числе рожденных в недрах иных этнокультурных и государственных традиций» [ Ададуров , 2013, с. 20].
С.М. Плохий не только поддержал коллег, но и критически высказался по поводу проекта многонациональной истории, активно продвигаемого П.Р. Магочем [ Магочій , 2012а, 2012b] как альтернативу «большой украинской истории». В указанных работах сделана попытка представить прошлое Украины в рамках современных границ как совокупность историй населявших её этносов. С.Н. Плохий соглашался с А. Каппелером в том, что «многонациональный подход имеет те же самые слабые стороны, что и этнонациональный, так как также может впадать в примордиализм, мыслить в телеологических терминах и маргинализовывать неэтнические группы и институции». Задача новой украинской историографии состояла «не в том, чтобы разнообразить национальную парадигму», а в том, чтобы «выйти за её границы». Один из сценариев прощания с национальным нарративом виделся в освоении транснационального подхода, основанного на понимании истории Украины как цивилизационного и культурного пограничья [ Плохій , 2013а].
Освобождение из плена национализированного историописания с помощью методологий региональных исследований предлагала Я.В. Верменич. Она справедливо заметила, что если «на рубеже XIХ – ХХ вв. украинская историография достаточно быстро справилась с задачей синтезирования того, что представлялось "ответвлением" польской, российской, австровенгерской и других историй, в единую историю еще не существующей модерной украинской нации», то в ХХІ в. «на порядок дня поставлена, в определенной мере, обратная задача – анализ национальной истории сквозь призму особенностей исторической судьбы её регионов». С точки зрения Я.В. Верменич, можно «создать целостную, но в достаточной степени привязанную к территории, локализированную историю Украины во всем её многообразии центр-периферийных и горизонтальных связей, с учетом… запутанных самоидентификаций, региональных дискурсов» [ Верменич , 2013, с. 14-15].
Против отказа от традиционных подходов выступил К.Ю. Галушко. Демонстрируя широкую эрудицию, он щедро цитировал зарубежных авторитетов для того, чтобы провозгласить своеобразный манифест «украинского национального постмодернизма»: «…современность – единственная материальная реальность нашего существования. Другой у нас нет». А поэтому, находясь исключительно в этой реальности, «…мы обречены на взгляд в прошлое сквозь оптику современности. Каким бы ни был этот взгляд, он все равно исходит из системы пространственно-временных координат, в которых мы существуем сегодня и которые сформировали нашу "ментальную карту" и которые мы экстраполируем в прошлое» [Галушко, 2013, с. 16]. Признавая все же, что «время «всеобщих теорий исторического процесса миновало», К. Ю. Галушко настаивал на том, что и в начале ХХІ в. «все дальнейшие интеллектуальные инновации происходят лишь в смысле реинтерпретации предыдущих концепций, которые… по-новому прочитываются» [Галушко, 2013, с. 7].
Аналогичную позицию занял и П.Р. Магочий. Он оказался единственным участником дискуссии, кто имел в своем активе опубликованную версию большой истории Украины. Его книжки были переведены на украинский язык, удостоились больших тиражей и широкой рекламы. Невозможно не заметить переклички названия одной из них с популярным нарративом М.С. Грушевского. Выступая противником деконструкции национального нарратива, предлагая лишь его декоративное обновление, П.Р. Магочий отказывал оппонентам в праве голоса на том основании, что никто из них не «издал полного синтетического труда по истории Украины» [ Магочій , 2013, с. 7]. В письме горячо отстаивался научный потенциал национальных историй: «… Безусловно, современное определяет прошлое, потому что это историки, которые создают прошлое, а значит, мы все, являемся конструктивистами» [ Магочій , 2013, с. 5]. По мнению канадского историка, познание ушедшей реальности с позиций профессионально организованной методологии невозможно, так как самой «прошлой реальности» уже не существует.
Наиболее прямолинейным защитником национального нарратива выступил О.М. Майборода. Будучи убежден в том, что «профессионализм отдельных историков неподвластен никаким концептуальным и методологическим прескрипциям», он обвинял коллег в покушении на размывание целостной истории Украины и утверждал, что «в линейной и территориальной историографии заложен глубокий смысл» [ Майборода , 2013, с. 26].
В дискуссии обнаружились и сторонники серединной позиции, призывающие соединить традиционные подходы и новации, выработать «единую схему и методологию истории Украины» [ Потульницький , 2014, с. 17-18], «учитывать, но не абсолютизировать мировые тенденции историописания», не спешить «заменять детерминизм национальной истории наднациональным редукционизмом» [ Віднянський, Мартинов , 2013, с. 16].
Каковы же итоги? Проблема возможности создания современного национального нарратива оказалась очень чувствительной с точки зрения позиционирования профессионального сообщества в современном научном пространстве, выработки стратегий ответов на общественные запросы и соответствия современной историографической культуре.
Во-первых, представляется всеобщим признание кризиса этнонациональных подходов к конструированию «большой украинской истории». Во-вторых, продемонстрированы знакомство с трендами мировой исторической мысли и готовность к их инкорпорации в украинскую историографию. В-третьих, многие открыто высказались за продолжение профессиональной дискуссии и неприятие откровенно пропагандистских, заидеологизированных подходов. В-четвертых, определились несколько принципиальных позиций, исходя из которых были предложены возможные пути выхода из кризиса, что способствовало более четкому размежеванию приверженцев аналитической, дидактической и аффирмативной историографии.
Однако дискуссия исчерпала себя в начале 2014 г., как нам представляется, не только по причине наметившейся ясности позиций, но и в связи с общественно-политическими катаклизмами конца 2013 – начала 2014 г., последовавшими за ними войной, поляризацией общественных настроений и обострением отношений с Россией. В таких условиях повышенная востребованность националистического дискурса в общественном сознании, дидактике и политической практике сделала невозможным реализацию проекта новой многотомной истории Украины с учетом высказанных предложений. Более того, она во многом отбросила общее состояние украинской историографии к стандартам историописания рубежа XIХ и ХХ вв., чем, вероятно, и объясняется новый всплеск интереса к популярным книжкам, особенно М.С. Грушевского и Н.Н. Аркаса. То, что, казалось, могло быть преодолено в ходе дискуссии 2012 -2014 гг., придется преодолевать новым поколениям, повторяя пройденный путь снова и снова.
В 2019 г. под эгидой Института истории Украины в рамках проекта «Энциклопедия истории Украины» вышла вторая книга тома «Украина - украинцы» [ Енциклопедія, 2019], представляющая национальную историю. Её составителями стали историки, убежденные в актуальности концепции М.С. Грушевского [ Галушко и др. , 2019; Віднянський, Мартинов, 2019]. По нашему мнению, это не случайно, как не случайно и неучастие в этом проекте тех, кто отстаивал неприемлемость этнонационального нарратива как способа осмысления протяженной истории Украины.
Список литературы Нарративизация украинского прошлого в конце Х1Х - начале ХХ1 века: возможно ли преодоление?
- Ададуров В.В. Народження одного iсторичного мiту: проблема "Наполеон i Україна" у висвiтленнi Iлька Борщака // Україна модерна. 2005. Вип. 9. С. 212-236.
- Ададуров В.В. Теоретичнi засади та методологiя вписування української iсторiї в європейський контекст (погляд iсторика-всесвiтника) // Український iсторичний журнал (далее - УIЖ). 2013. № 2. С. 4-23.
- Аркас М.М. Iсторiя України-Русi. Київ.: Вища школа, 1990. 456 с.
- Аркас М.М. Iсторiя України-Русi. СПб.: Тов-во "Общественная польза", 1908. XVI, 384 p.
- Бiднов В. Що читати по iсторiї України: (коротенька iсторiографiя України): з викладiв на учительських курсах українознавства. Катеринослав: Вид-ня Союзу спожив. товариств, 1920. 47 с.