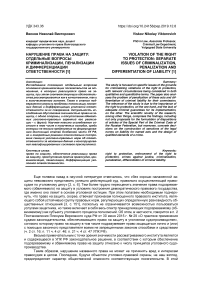Нарушение права на защиту: отдельные вопросы криминализации, пенализации и дифференциации ответственности
Автор: Висков Николай Викторович
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 12, 2019 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено отдельным вопросам оснований криминализации посягательств на отношения, в которых реализуется право на защиту, при этом соответствующие обстоятельства рассматриваются как в качественном, так и в количественном аспекте. Также в статье подвергаются анализу проблемы пенализации названных деяний и дифференциации уголовной ответственности за их совершение. Актуальность исследования обусловлена значимостью права на защиту, с одной стороны, и отсутствием адекватных уголовно-правовых гарантий его реализации - с другой. Научная новизна исследования состоит в том числе в полученных выводах, среди которых не только предложения по формулированию диспозиций статей Особенной части УК РФ, но и конкретные решения относительно построения санкций уголовно-правовых норм об ответственности за названные деяния и конструирования квалифицированных составов преступлений.
Право на защиту, обеспечение реализации права на защиту, преступления против правосудия, криминализация, пенализация, дифференциация уголовной ответственности
Короткий адрес: https://sciup.org/149132469
IDR: 149132469 | УДК: 343.36 | DOI: 10.24158/pep.2019.12.8
Текст научной статьи Нарушение права на защиту: отдельные вопросы криминализации, пенализации и дифференциации ответственности
Еще полвека назад в научной литературе отмечалось, что «без хорошо налаженной защиты невозможно представить успешно действующий суд, правильно осуществляющий правосудие по уголовному делу» [2, с. 6]. Тем более трудно переоценить значение права подозреваемого (обвиняемого) на защиту в условиях построения демократического правового государства, где именно оно лежит в основе уголовной юстиции. При этом полагаем необходимым подчеркнуть, что право на защиту, скорее, отвечает признакам полноценного правового института, являющего собой устойчивую группу правовых норм, регулирующих определенную разновидность общественных отношений [3, с. 151], поскольку не ограничивается возможностью пользоваться услугами защитника, но также включает в себя весь спектр принадлежащих подозреваемому (обвиняемому) как субъекту уголовного процесса полномочий. Об этом, в частности, говорится в п. 2 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве», согласно которому право на защиту в том числе подразумевает право защищаться лично и (или) с помощью законного представителя всеми не запрещенными законом способами и средствами (ч. 2 ст. 16; п. 11 ч. 4 ст. 46; п. 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ).
Весьма примечательным с точки зрения значимости рассматриваемого института является и содержащееся в УПК РФ законодательное решение, в соответствии с которым обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту отнесено к числу принципов уголовного судопроизводства.
Таким образом, нарушение названного права не может не причинять вред и интересам правосудия в целом. Последнее, будучи объектом уголовно-правовой охраны, на наш взгляд, предопределяет характер общественной опасности соответствующих посягательств. В этой связи установление уголовной ответственности за посягательства на интересы правосудия выступает как один из способов обеспечения его эффективности и соблюдения закона всеми вовлеченными в деятельность судебных органов субъектами [4, с. 7].
Достижение степени общественной опасности подобного рода деяний криминообразующего уровня обусловливается целым рядом факторов.
В качестве первого фактора назовем содержание полномочий, принадлежащих подозреваемому (обвиняемому) в силу его статуса, при помощи которых он может защищаться самостоятельно. Только при условии свободной реализации названных прав можно судить о соблюдении принципов состязательности, законности, равенства сторон и пр.
Не менее важным условием, подлежащим учету при определении степени общественной опасности деяний, способных причинить вред отношениям, в которых находит свою реализацию право на защиту, является функциональная роль защитника. В данном аспекте, думается, необходимо помнить о таком проявлении назначения уголовного судопроизводства, как защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Последнее свидетельствует о том, что фигура защитника вряд ли менее значима для интересов правосудия, чем, например, следователь или прокурор, однако, в отличие от иных участников уголовного судопроизводства, действующее уголовное законодательство не предусматривает, в частности, для адвоката каких-либо специальных гарантий возможности свободного осуществления им своих полномочий.
Учитывая дуалистический характер рассматриваемого права, включающего в себя как самостоятельное осуществление подозреваемым (обвиняемым) принадлежащих ему в силу закона полномочий, так и деятельность защитника, видится необходимым распространение уголовноправовой охраны на оба указанных аспекта. С одной стороны, эффективная защита основывается на необходимости обеспечения адвокату или иному допущенному в качестве защитника лицу свободно выполнять свою процессуальную функцию, что исключает любое незаконное внешнее воздействие на таких субъектов. Так, Ю.И. Кулешов по данному поводу указывал следующее: «Мировое законодательство знает немало интересных положений, не имеющих аналогов в УК РФ, в частности, заслуживают внимания правовые нормы, предусматривающие… криминализацию вмешательства (воспрепятствование) в законную деятельность защитника или представителя лица» [5, с. 13]. С другой, как уже указывалось выше, речь идет о соответствующем субъективном праве самого привлекаемого к уголовной ответственности лица.
С учетом вышеизложенного возможность признания преступными рассматриваемых общественно опасных деяний представляется обоснованной с позиции как качественного [6, с. 136], так и количественного [7, с. 70] подхода к основаниям криминализации.
При этом видится разумным предусмотреть в уголовном законе две самостоятельные нормы, локализовав их должным образом в системе преступлений против правосудия, поскольку верное определение логической тектоники нормативного акта способно позитивным образом сказаться на качестве правотворческой и правоприменительной деятельности [8, с. 5].
Таким образом, полагаем возможным введение в главу 31 УК РФ «Преступления против правосудия» статей 294.1 «Воспрепятствование деятельности защитника» и 301.1 «Нарушение права на защиту». Именно такое расположение названных норм в системе преступлений против правосудия, думается, в наибольшей мере отвечает правовой природе соответствующих уголовно-правовых запретов. В частности, защитник (в том числе адвокат) является участником судопроизводства наряду с лицами, названными в настоящее время в ч. 2 ст. 294 УК РФ, и, по мнению отдельных авторов, должен находиться под такой же защитой, как следователь (дознаватель) и прокурор [9, с. 63]. Нарушение субъективного права подозреваемого (обвиняемого) на защиту выглядит в определенной мере сходным с деяниями, запрещенными ст. 301 УК РФ, поскольку, так же как и названное деяние, причиняет вред общественным отношениям, обеспечивающим процессуальную форму осуществления правосудия, элементом которой, по сути, является право на защиту [10, с. 13]. Названное обстоятельство с точки зрения классификации преступлений против правосудия [11, с. 342] делает логичным установление уголовно-правовых гарантий осуществления названного права в ст. 301.1 УК РФ.
Вместе с тем для эффективной борьбы с посягательствами на отношения, в которых реализуется право на защиту, необходимо не только верно определить объективные и субъективные признаки потенциальных составов преступлений, выявить круг потерпевших и отразить все это в диспозициях соответствующих уголовно-правовых норм, но и сконструировать адекватные характеру и степени общественной опасности рассматриваемых деяний санкции.
Как отмечается в теории уголовного права, «процесс создания логически стройной системы преступлений против правосудия предполагает в конечном счете выдержанность санкций, их научную обоснованность, соответствие существу запрещаемых деяний, а также взаимную согласованность между собой» [12, с. 15].
Однако конструирование внутренне непротиворечивой системы преступлений против правосудия – не единственная цель научно обоснованного подхода к пенализации соответствующих деяний, поскольку наряду с этим имеется взаимосвязь правильности построения уголовно-правовых санкций с эффективностью применения уголовного закона [13, с. 3]. Кроме того, пропорциональность наказуемости деяния степени его общественной опасности имеет существенное значение для общепредупредительного воздействия уголовного права [14, с. 35].
При построении санкции необходимо принимать во внимание ее качественную и количественную характеристики, т. е. вид подлежащих включению в санкцию наказаний и их пределы [15, с. 6]. Также учету, на наш взгляд, подлежит принятая в теории уголовного права классификация санкций на единичные и альтернативные, а также простые и кумулятивные [16, с. 66].
С учетом названных обстоятельств для построения санкции уголовно-правовых норм за преступления против права на защиту необходимо последовательно ответить на следующие вопросы:
-
1) должна ли быть санкция альтернативной или нет;
-
2) должна ли санкция содержать дополнительный вид наказания и если да, то должно ли оно быть обязательным или факультативным;
-
3) какое наказание (наказания) подлежит включению в санкцию;
-
4) каков должен быть размер основного и дополнительного наказаний, если таковые будут предусмотрены.
-
301.1, изложив их следующим образом:
Сложность правильного определения конструкции, содержания и размеров санкций за конкретные преступления во многом обусловлена отсутствием как объективных предпосылок для этого [17, с. 94], так и научно обоснованной системы их построения [18, с. 41–42]. Это приводит к тому, что одни ученые указывают на умозрительный способ определения пределов наказаний, входящих в санкцию [19, с. 249], а другие говорят о невозможности логического обоснования при решении названной проблемы [20, с. 61–62].
Тем не менее в отдельных работах все-таки можно встретить попытки научного обоснования построения санкций при помощи специальных правил. К таковым, в частности, относятся ограничение вариативности санкции, соразмерность санкций одного вида преступлений, сопоставимость санкций по разным составам преступления, относящихся к одной категории тяжести, и др. [21, с. 275–276]. Также предлагаются алгоритмы, призванные обеспечить соответствие структуры и содержания санкции категории преступления: обязательная альтернативность санкций за преступления небольшой тяжести, понижающая альтернатива за преступления средней тяжести и т. д. [22, с. 754]. Некоторые из приведенных правил вполне применимы в процессе пенализации преступлений, посягающих на право на защиту.
Считаем, что санкции предлагаемых статей УК РФ должны быть в первую очередь альтернативными, что позволит в необходимой мере обеспечить реализацию принципа справедливости. В связи с этим вряд ли можно согласиться с предложением об установлении за простой состав вмешательства в деятельность адвоката при осуществлении им профессиональной деятельности единственного вида наказания в виде штрафа [23, с. 70]. Далее, ответственность за соответствующие преступления с квалифицированными составами, предполагающими использование лицом при совершении преступления своего служебного положения, в том числе случаи нарушения права на защиту адвокатом, должна включать в себя в качестве обязательного дополнительного наказания лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Что касается видов и размеров наказания, то при их определении в качестве ориентира могут использоваться ст. 294 и 301 УК РФ.
Не менее важным видится и решение вопросов дифференциации ответственности в названной сфере, что требует установления тех признаков состава преступления, которые в данном случае влияют на степень общественной опасности в сторону ее повышения [24, с. 230]. Таковыми применительно к составам предлагаемых к включению в уголовный закон деяний могут, на наш взгляд, выступать использование служебного положения, наступление тяжких последствий, нарушение права на защиту специальным субъектом – адвокатом.
Что касается первых двух квалифицирующих признаков, то они используются законодателем в ст. 294 и 301 УК РФ соответственно. Последнее же обстоятельство способно существенным образом увеличить потенциальное негативное воздействие на объект посягательства в силу особого отношения, складывающегося между подзащитным и адвокатом, обеспеченного понятием адвокатской тайны и обязанностью адвоката действовать исключительно в интересах своего доверителя. Взаимное доверие, как основа отношений «адвокат – клиент», признается во всех правовых системах [25, p. 34].
Обобщая вышесказанное, полагаем необходимым дополнить УК РФ статьями 294.1 и
Статья 294.1 «Воспрепятствование деятельности защитника»
-
1. Вмешательство в какой-либо форме в деятельность защитника по уголовному делу в целях воспрепятствования осуществлению им своих полномочий
-
– наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.
-
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,
-
– наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статья 301.1 «Нарушение права на защиту»
-
1. Непредоставление защитника или недопуск его к участию в уголовном деле, а равно иное грубое нарушение права на защиту, совершенное следователем, дознавателем или судьей, – наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
-
2. Грубое нарушение права на защиту, совершенное адвокатом в отношении своего доверителя,
-
– наказывается принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
-
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия,
-
– наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет.
Ссылки и примечания:
-
1. Публикация подготовлена при поддержке гранта РФФИ (проект № 17-03-00798-ОГН).
-
2. Перлов И.Д. Право на защиту : учеб. пособие. М., 1969. 79 с.
-
3. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права : учебник. М., 2004. 512 с.
-
4. Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. СПб., 2005. 600 с.
-
5. Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы теории, законотворчества и правоприменения : авто-реф. дис. … д-ра юрид. наук. Владивосток, 2007. 54 с.
-
6. Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М. ; Л., 1948. 315 с.
-
7. Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика. Проблемы криминализации и пенализации. Владивосток,
1987. 268 с.
-
8. Чернобель Г.Т. Логическая структура нормативного акта и ее роль в реализации права // Проблемы совершенствования советского законодательства : труды / ВНИИСЗ. Вып. 21. М., 1981. С. 3–13.
-
9. Бунин О.Ю. Уголовно-правовая охрана адвокатской деятельности определена несправедливо // Евразийская адвокатура. 2016. № 1 (20). С. 63–65.
-
10. Гимазетдинов Д.Р. Уголовно-процессуальная форма: общетеоретический, нормативно-правовой и правоприменительный анализ : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2013. 27 с.
-
11. Горелик А.С., Лобанова Л.В. Указ. соч. С. 342.
-
12. Кулешов Ю.И. Указ. соч. С. 15.
-
13. Козлов А.П. Механизм построения уголовно-правовых санкций : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991. 38 с.
-
14. Пионтковский А.А. Основные аспекты теории наказания // Советское государство и право. 1969. № 7. С. 34–42.
-
15. Козлов А.П. Указ. соч. С. 6.
-
16. Кругликов Л.Л. Классификация уголовно-правовых санкций // Советское государство и право. 1983. № 5. С. 63–67.
-
17. Вейберт С.И. Проблемы построения санкций уголовно-правовых норм и практики назначения наказания за взяточничество // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. 2007. № 2 (80). С. 93–100.
-
18. Густова Э.В. К вопросу о построении типовых санкций в Уголовный кодекс Российской Федерации // Юристъ-Право-
ведъ. 2015. № 5 (72). С. 41–45.
-
19. Основания уголовно-правового запрета: Криминализация и декриминализация / В.Н. Кудрявцев, П.С. Дагель, Г.А. Злобин [и др.]. М., 1982. 303 с.
-
20. Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве: политико-юридическое исследование. Саратов, 1973. 193 с.
-
21. Рогова Е.В. Учение о дифференциации уголовной ответственности : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. 337 с.
-
22. Тихонова С.С. Особенности конструирования санкций в уголовном законе: теория и законотворческая практика // Юридическая техника. 2013. № 7-2. С. 752–761.
-
23. Быков А.В., Токмакова А.А. Уголовно-правовая защита адвоката: необходимы новации // Евразийская адвокатура. 2017. № 1 (26). С. 68–71.
-
24. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. М., 2000. 400 c.
-
25. Parker C., Evans A. Inside Lawyers’ Ethics. N. Y., 2007. 269 p.
Список литературы Нарушение права на защиту: отдельные вопросы криминализации, пенализации и дифференциации ответственности
- Перлов И.Д. Право на защиту: учеб. пособие. М., 1969. 79 с
- Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2004. 512 с
- Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. СПб., 2005. 600 с
- Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы теории, законотворчества и правоприменения: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Владивосток, 2007. 54 с
- Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М.; Л., 1948. 315 с
- Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика. Проблемы криминализации и пенализации. Владивосток, 1987. 268 с
- Чернобель Г.Т. Логическая структура нормативного акта и ее роль в реализации права // Проблемы совершенствования советского законодательства: труды / ВНИИСЗ. Вып. 21. М., 1981. С. 3-13
- Бунин О.Ю. Уголовно-правовая охрана адвокатской деятельности определена несправедливо // Евразийская адвокатура. 2016. № 1 (20). С. 63-65
- Гимазетдинов Д.Р. Уголовно-процессуальная форма: общетеоретический, нормативно-правовой и правоприменительный анализ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2013. 27 с
- Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. СПб., 2005. С. 342.
- Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы теории, законотворчества и правоприменения: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Владивосток, 2007. С. 15.
- Козлов А.П. Механизм построения уголовно-правовых санкций: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991. 38 с
- Пионтковский А.А. Основные аспекты теории наказания // Советское государство и право. 1969. № 7. С. 34-42
- Козлов А.П. Механизм построения уголовно-правовых санкций: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1991. С. 6.
- Кругликов Л.Л. Классификация уголовно-правовых санкций // Советское государство и право. 1983. № 5. С. 63-67
- Вейберт С.И. Проблемы построения санкций уголовно-правовых норм и практики назначения наказания за взяточничество // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. 2007. № 2 (80). С. 93-100
- Густова Э.В. К вопросу о построении типовых санкций в Уголовный кодекс Российской Федерации // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 5 (72). С. 41-45
- Основания уголовно-правового запрета: Криминализация и декриминализация / В.Н. Кудрявцев, П.С. Дагель, Г.А. Злобин [и др.]. М., 1982. 303 с
- Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве: политико-юридическое исследование. Саратов, 1973. 193 с
- Рогова Е.В. Учение о дифференциации уголовной ответственности: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. 337 с
- Тихонова С.С. Особенности конструирования санкций в уголовном законе: теория и законотворческая практика // Юридическая техника. 2013. № 7-2. С. 752-761
- Быков А.В., Токмакова А.А. Уголовно-правовая защита адвоката: необходимы новации // Евразийская адвокатура. 2017. № 1 (26). С. 68-71
- Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. М., 2000. 400 c
- Parker C., Evans A. Inside Lawyers' Ethics. N. Y., 2007. 269 p