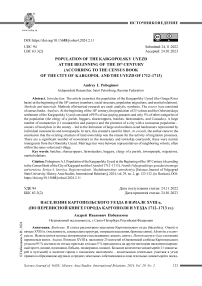Население Каргопольского уезда в начале XVIII в. (по переписной книге города Каргополя и уезда 1712-1713 гг.)
Автор: Побежимов А.И.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Источниковедение
Статья в выпуске: 2 т.29, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье рассмотрено население Каргопольского уезда (бассейн р. Онеги) в начале XVIII в. (численность, социальная структура, миграции населения, брачные связи). Методы и материалы. Используются методы исторического исследования: анализ, синтез. Источниковую базу составили переписные книги. Анализ. В начале XVIII в. население 25 волостей и Ошевенской слободы Каргопольского уезда на 95 % состояло из тяглых крестьян и только 5 % приходилось на другие категории населения (церковный причт, нищие, половники, бобыли, подворники, казаки). Большое количество монастырей (11 монастырей и пустыней) и наличие города с посадским населением - владельцами земельных участков в уезде привело к образованию крупных и средних земельных собственников в лице отдельных монастырей и посадских людей. В свою очередь, это вызывало потребность в рабочей силе. В результате автор пришел к выводам: сложившаяся структура землевладения послужила причиной активности миграционных процессов; наблюдается значительное количество пришлого населения в монастырских и посадских дворах, в основном это были выходцы из Олонецкого уезда. Брачные связи были между представителями соседних волостей, чаще в пределах одной волости и деревни.
Бобыли, половники, подворники, нищие, причт, посадские люди, миграции, брачные связи
Короткий адрес: https://sciup.org/149145712
IDR: 149145712 | УДК: 94 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.2.11
Текст научной статьи Население Каргопольского уезда в начале XVIII в. (по переписной книге города Каргополя и уезда 1712-1713 гг.)
DOI:
Цитирование. Побежимов А. И. Население Каргопольского уезда в начале XVIII в. (по переписной книге города Каргополя и уезда 1712–1713 гг.) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 2. – С. 123–132. – DOI:
Введение. Каргопольский у. находился в бассейне р. Онеги. Он охватывал берега оз. Лаче, верхнее и среднее течение р. Онеги с притоками, реками Кена и Волошка. В переписных книгах (далее – ПК) Каргополя и уезда 1712 и 1713 гг. говорится: «В Каргопольском уезде кроме посада и Турчасовского посада и стана и Мехреньгского, Устьмошско-го, Мошенского станов же и монастырских вотчин 35 волостей» [6, л. 829 об.]. ПК составлялись в период петровских преобразований, связанных с усилением государственного гнета, и в этом отношении Каргопольский у. ничем не отличался от других станов. Мужское население привлекалось на строительство Санкт-Петербурга (580 чел.), для работ на Олонецкой верфи (69 чел.), где во всех случаях говорится: «умер под Олонца-ми». Население забиралось в даточные солдаты или рекруты (57 чел.) [6]. В других станах Турчасовском (поморские волости) и Мех-реньгском в это время происходил массовый исход населения. Поморские земли опустели наполовину. Похожая ситуация наблюдалась и в Мехреньгском стане. Уровень эмиграции (уход населения в другие уезды) в этих станах значительно превышал уровень иммиграции (приток переселенцев из других уездов) [11; 12, с. 11–14].
Предстоит выяснить численность, социальную структуру, миграции (уровень, направления миграции, соотношение эмиграции и иммиграции), брачные связи населения Каргопольского у. в начале XVIII века. Поставленные задачи определяют научную новизну исследования.
Методы и материалы. Источниковую базу исследования составили Книги Переписные города Каргополя и уезда в 1712 и
1713 гг. стольника коменданта Петра Васильевича Коробнина. ПК хорошей сохранности, на 837 листах, в кожаном переплете. Бумага серая, не плотная, написана русской скорописью XVIII в., предположительно тремя почерками. По скрепам на листах определяются имена переписчиков: подьячий Андрей Лютуев, подьячий Андрей Митусов, подьячий Степан Чесноков. ПК состоит из четырех разделов. В первом разделе представлен перечень всех волостей Каргопольского у. и станов (Устьмошского, Мошенского, Мехреньгского, Турчасовского) с волостями и монастырями. Во втором разделе – перепись города Каргополя. В третьем разделе – перепись 25 волостей с Ошевенской слободой. По итогам переписи каждой волости приводятся данные по количеству жилых, пустых деревень, дворов, изб; численности крестьян мужского и женского пола, попов, причетников, нищих, увечных; в конце раздела – по 35 волостям Каргопольского у.: численность жилых, пустых деревень, дворов, изб. В четвертом разделе дается описание 6 монастырей Каргопольского у. [6].
В статье применены традиционные методы исследования письменных источников: интерпретация (выявляется заключенная в источнике информация), анализ (критика источника), синтез (реконструкция исторического прошлого). При анализе источника используется также количественный метод – производится подсчет численности различных групп населения Каргопольского уезда.
Дискуссия (историография). Возникновение интереса к истории русского населения Каргопольского у. относится к концу XIX– началу XX века. Именно в это время выходит большое количество публикаций краеведческо- го характера. В трудах А. Воронова, Г.И. Куликовского, А. Мельницкого, И. Полякова, П.Н. Рыбникова, Я. Светлова выясняется происхождение, особенности диалекта, характера, обычаи и занятия населения [3; 7; 8; 13–15]. М.М. Богословский впервые представил выборочные данные из переписных книг Каргопольского у. 1648 г. по всем станам и волостям [1, с. 14–15; приложение, с. 10; 9]. По материалам Платежной книги 1555–1556 гг. и Сотных Каргопольского уезда 1561–1562 гг. Ю.С. Васильев дал полное описание Каргопольского у. в середине XVI в., в том числе численность и социальный состав населения [2; 10; 17]. В наши дни Н. Тормосова изучила историю каргопольских поселений периода XIX – конца XX века. Также была определена численность населения в волостях Карго-полья [18]. Стали появляться работы, связанные с историей отдельных волостей Каргопольского уезда. Стоит отметить исследование А.Ю. Жукова по истории Каргопольской половины Водлозерской волости. Наряду с другими вопросами в статье рассмотрено развитие населения волости [4]. В работе использовались Сотные на Водлозерскую волость 1568–1569 гг. и переписные книги Каргопольского у. 1648 г. [9; 16]. Надо сказать, что период начала XVIII в. в истории населения Каргопольского у. не получил должного освещения в отечественной историографии.
Анализ. В начале XVIII в. население 25 волостей и Ошевенской слободы Каргопольского у. насчитывало 20 176 человек. Самой многочисленной группой были тяглые крестьяне, они составляли около 95 % от общего числа населения. Второй по числу населения группой были попы и причетники с семьями – 480 человек. Они жили на погостах и церковных деревнях, в среднем от 17 до 20 человек. Наиболее крупные погосты (место, где находилась церковь с церковными дворами и избами) по численности церковного причта: Волосовский (41 чел.), Троицкий (35 чел.), Олгский (33 чел.), Надпорожский (32 чел.), Олеховский (32 чел.), Кенозерский (30 чел.) [6, л. 116–837].
Кроме крестьян существовала другая группа земледельцев – половники. Половники – это наемные рабочие, обрабатывавшие чужую землю на определенных условиях [1, с. 133–134]. В волостях Каргопольского у. по- ловники встречаются в монастырских и деревенских дворах посадских людей. Всего насчитывалось 11 дворов с половниками. Каргопольские монастыри не часто использовали труд половников: из 50 монастырских дворов, дворишек, изб и келий только в 3 дворах жили половники. В Кенорецкой вол. в д. Оле-ховская «в дворенке монастырском жили половники в давние годы государственные дворцовые крестьяне» [6, л. 350, 358]. Чаще можно встретить половников в деревенских дворах посадских людей: из 41 двора в 8 жили половники. В вол. Троицкой в д. Тугаринская Песочная тож «двор каргопольца посадского человека Дмитрия Типихина, а в ней половник той же волости Евдоким Тарасов» [6, л. 695].
Бобыли отличались от крестьян податным положением – их дворы писались как тяглыми, так и оброчными [5, с. 58–61]. К началу XVIII в. эта категория населения постепенно исчезает, во всех волостях Каргопольского у. насчитывалось бобыльских 19 дворов, 6 дворишек и 5 изб бездворных, большая часть из них находилась в деревнях, 4 двора на погостах и 4 двора в Слободе Ошевенского монастыря. Все дворы и избы к этому времени были пустыми. Единственное бобыльское дворишко было населено только по причине пожара, что случился в д. Кишалинская в волости Устьволожская в 1713 г., в результате деревня полностью сгорела. В той деревне находилось 2 жилых двора, и их обитатели были вынуждены поселиться в бобыльском дворенке [6, л. 695]. Каргопольские бобыли в количестве 25 человек жили в крестьянских дворах и на погостах – на поповских и причетнических дворах, постепенно сближаясь с другими социальными группами: рабочими по найму (казаки, подворники) и нищими. В вол. Троицкой в д. Горка Ситникова «во дворе крестьянин Иван Зотиков, у него казак той же волости деревни Боковской бобыль Иван Ефимов». «На погосте во дворе поп Иван Ивдин, у него наемный работник той же волости Никоновской деревни бобыль Иван Кирилов»; «Во дворе посвященный церковный дьячок Петр, пономарь Федор Ивдины дети, у них казак из найму той же волости с погоста бобыль Андрей Семенов» [6, л. 533, 534, 535]. Можно встретить бобылей по примеру населения погостов, записанных нищими. В вол. Олга «на погосте в избе вдовы Парасковьи Фоминой Петровской жены Титова живет нищий бобыль Петр Нестеров» [6, л. 677] .
Казаками называли наемных рабочих [1, с. 141]. По ПК числится 18 казаков, примерно треть из них писаны на погостах. В вол. Тих-маньгской «у церкви во дворе поп Иоанн Петров, у него казак Ягремской волости Иван Иванов» [6, л. 700]. Казаки упоминаются также в деревенских дворах посадских людей и крестьян. В вол. Ольховская в д. Ефимовс-кая «двор пуст каргопольца посадского человека кузнеца Семена Мартемьянова, а в нем жил наемный казак Троицкой волости д. Кур-шинской Григорий Иванов» [6, л. 389. 402, 396]. В вол. Устьволожской в д. Котельниковская Титовская тож «во дворе крестьянин Ларион Григорьев, у него казак с погоста Максим Васильев» [6, л. 115 об., 422 об., 700].
Главное отличие нищих состояло в том, что они не платили никаких повинностей в пользу государства. Нищие жили в кельях и избах, питаясь от церкви и приходских людей [5, с. 58–60]. В волостях Каргопольского у. их насчитывалось 191 человек. Примерно половина всех нищих жила в крестьянских дворах. На погостах нищие жили в основном в избах. Всего на погостах насчитывалось 42 нищенских избы, в которых проживало 83 человека. По количеству нищенских изб выделялись Кенозерский погост (из 15 дворов и изб – 9 нищенских изб), Кенорецкий (из 14 дворов и изб – 5 нищенских изб), Троицкий (в д. Семеновская при погосте – 6 изб нищенских), Плеский (из 11 дворов и изб – 5 нищенских изб) [6]. Все они располагались на севере Каргопольского у. и были отдалены от города Каргополя. Напротив, в некоторых близлежащих к Каргополю погостах (Тихманьгский, Ягремс-кий, Полуборский, Верхнечурьежский, Мало-шалгский, Ряговский) нищенские избы и сами нищие или полностью отсутствовали, или насчитывалось не более одной избы и одного-двух человек. Возможно, сказывалась конкуренция со стороны Каргополя – города с большим количеством церквей, богадельных изб и постоялых дворов [6, л. 8–75].
Группа населения, всегда живущая рядом с нищими и по образу жизни близкая им, объединяла людей, полностью посвятивших жизнь служению богу (старцы, старицы, страстотер- пцы, монахи), они являлись неотъемлемой частью северной волости. В волостях Каргопольского у. числилось 159 человек, в основном их можно встретить на погостах, в монастырях и монастырских владениях, за редким исключением – в деревнях. В Водлозерской вол. в д. Осиповская Госьнаволок «двор пуст Никиты Фомина, а он Никита в доме во схимонашестве умер в давних годах» [6, л. 318].
Подворники – это работники, жившие на чужих дворах и оплачивавшие свое проживание работой. Так же как и нищие, они не платили никаких государственных податей [5, с. 58–68]. Подворниками также называли съемщиков жилого помещения во дворе, квартирантов [1, с. 140]. Вероятно, имело место и то и другое: подворник был и квартирантом, и, будучи квартирантом, в большинстве случаев – работником. В волостях Каргопольского у. было всего 2 подворника. В вол. Олга в д. Калитинская «во дворе крестьянин Флор, Марк Герасимовы дети, у них подворница нищая вдова Ксения Иванова дочь» [6, л. 673 об.].
Многие посадские люди имели земельные участки в волостях. Таким образом, они принадлежали сразу к двум общинам: по владениям в городе являлись членами посадской общины, по земельным владениям – членами волостной общины [1, с. 124]. Некоторые из них переезжали в волость и таким образом уходили от несения посадского тягла, а те, кто жил в городе, старались максимально использовать свои земельные владения в деревнях. Из 42 деревенских дворов и изб, принадлежавших посадским людям, только 8 были пустыми. В вол. Верхнечурьюгская в д. Раевская «двор пуст каргопольца посадского человека Алексея Киприянова, а он Алексей живет в Каргополе на посаде в своем жилом дворе» [6, л. 195]. По количеству дворов в волостях посадское землевладение не сильно уступало монастырскому. Мы видим в деревенских посадских дворах крестьян, казаков и половников с семьями. По размерам и организации хозяйства (использование наемного труда) посадские дворы были похожи на монастырские, при некоторых из них также были скотные избы. В вол. Надпорожская в д. Осташевская «двор каргопольской приказной избы подьячего Василия Прокопьева, в том дворе живут той же волости деревни Филипповской крестьянин Иван Петров, Большешалгской волости деревни Колобово Григорий Тихонов сын Бодухина, нищая вдова той же волости Анна Андреевская жена Гордеева, у того двора изба пустая скотская» [6, л. 389, 402, 396]. Есть примеры владения одним посадским человеком несколькими дворами. В вол. Ко-вежская в д. Мотовиловская Пустая «двор пуст каргопольца Петра Семенова сына Белоусова, а он Петр живет в Каргополе на посаде в своем дворе». В д. Рябевская той же волости «двор каргопольца Петра Белоусова, а в нем работник Семен Ануфриев, у него сосед Гаврило Сергеев. Двор пуст его же Петра Белоусова, а в нем жил исполовник той же волости крестьянин Степан Иванова сын, а он Степан помер в 1709 году»; «Место дворовое пустое его же Петра Белоусова, а в нем жил исполовники той же волости Максим Титов, а он Максим умер в давних годах» [6, л. 648, 650, 650 об.].
Наличие крупных погостов, монастырей (11 монастырей и пустыней), монастырского и посадского землевладения стимулировало движение населения внутри и за пределами Каргопольского уезда. Население погостов формировалось в основном из представителей «той же волости», но есть и приходцы. В Вод-лозерском погосте – «нищая сирота той же волости другой половины Олонецкого уезда из деревни Кугонаволок Ирина Федорова дочь, пономарь той же волости другой половины Олонецкого уезда с погоста Василий Лукьянов»; в Троицком погосте – «казак Водлозер-ской волости Иван Еремеев, каргополка вдова Марфа Созонова дочь Осиповская жена Мартынова»; в Олгском погосте – «наймит Большешалгской волости деревни Заречье Михайло Никитин» [6, л. 302–724].
В монастырях, пустынях и 50 монастырских дворах и избах насчитывалось 119 человек, пришедших из разных волостей Каргопольского и соседних с ним уездов. В Оше-венском монастыре в Слободе в д. Лисицын-ская отмечен «государственный дворцовый крестьянин Верхнечурьегской волости Харитон Иванов, на скотном дворе дворцовый крестьянин Кенозерской волости деревни Вершининой Горы Василей Федоров, Кирилова монастыря крестьянин Леонтий Алексеев, в избе живет на время для рубки кирпича церковно- го строения Холмогорского уезда Макар Васильев»; в д. Верхнии Кривцы – «двор монастырский, в котором живет крестьянин Вологодского уезда Заболоцкой волости Николаевского прихода Алексей Тихонов сын Дяко-ва»; в Водлозерской вол. на пустоше Лузь подле Лузь озера во дворе Юрьегорского монастыря – «скотники государевы дворцовые крестьяне Олонецкого уезда Оштинского погоста д. Юрьевы Клементий Марков, Приче-стенского погоста Афонасей Петров, скотница Выгозерского погоста д. Нюхчозеро вдова Степанида Еремеева жена Мосеева, Водло-зерской волости д. Куганаволок вдова Парасковья Клементьевская жена Якимова»; в д. Коркала подле Идмала озера «двор монастырский, в нем живет скотник Турчасовс-кого стану Городской волости деревни Матвеевской государственный крестьянин Семен Тимофеев сын Клементьев»; в волости Усть-воложская в д. Езуловская Спасова монастыря Строкиной пустыни на монастырском дворе – «работники для пашни деревенского участка государственные дворцовые крестьяне Каргопольского уезда Нименгской волости деревни Нискоглядовой Никита, Степан, нищая вдова Охтомской волости деревни Притечной Ефимия Григорьева жена Лукьянова»; в пустыне Наглимозерской – «Олонецкого уезда крестьянин Водлозерской волости деревни Спирино Григорий Алексеев» [6, л. 224–428, 835].
Дворы посадских людей также привлекали наемных работников из разных мест. В 42 посадских дворах числилось 92 человека В Тихманьгской вол. в д. Трениковская «во дворе посадского человека живет половник Олонецкого уезда Андомской волости Ульян Федоров»; в Надпорожской вол. в д. Пустыриха «во дворе каргопольцев посадских людей Ивана да Авраама Прибыткова живут на время работники Олонецкого уезда Кижского погоста Николай и Иван Григорьев»; в Болшешальг-ской вол. в д. Саунинская Лысаковская «двор каргопольца посадского человека Никиты При-быткова у него казак Олонецкого уезда Выте-горского погоста д. Пустоши Андрей Осипов»; «в той же деревне двор каргопольца иконописца Ивана Семенова сына Иконникова, в том дворе живут Соловетцкого монастыря Лемец-кой волости Иван, Еремей, Григорий, Петр Петровы дети» [6, л. 90–703 об.].
В крестьянских дворах мы также видим переселенцев, преимущественно из различных волостей Каргопольского, Олонецкого, Белозерского уездов и Чарондонской округи, всего насчитывалось 62 человека. В вол. Верх-нечурьюгская в д. Черепановская живет «Олонецкого уезда Пудожского погоста крестьянин Захар Андреев», «Олонецкого уезда Вытегорского погоста крестьянин Андрей Иванов»; в вол. Троицкая в д. Колодинская – «Иван Иванов Олонецкого уезда Кижского погоста»; в вол. Олга в д. Поршевская – «Белозерского уезда Надпорожского стана волости Федосина Горка деревни Терехово государственный крестьянин Лука Семенов»; в д. Вахрушевская – «Олонецкого уезда Шуйского погоста д. Рогадкина Михайло, Евсей Афонасьевы дети»; в Малошалгской вол. в д. Есино – «Чарондонской округи крестьянка вдова Гликерья Климовская жена Ерофеева»; в вол. Ваденской в д. Головинская – «нищая Чарондонской волости Гликерья Созоновская жена Григорьева» [6, л. 139–666, 746, 767 об., 823]. Не указано, какое положение занимали мигранты в семьях каргопольских крестьян. Только в одном случае говорится, что в вол. Лек-шмозерская в д. Осиевская Надочиозерской «во дворе крестьянина Ивана Кондратьева живет сосед Олонецкого уезда Пудожского погоста Корбозерской волости с Пелусозера Иван Евсеев с двумя сыновьями» [6, л. 139 об.].
Самой многочисленной группой мигрантов из других уездов были выходцы из соседнего Олонецкого уезда. Всего насчитывалось 112 человек, 72 из них жили в монастырских и посадских дворах, остальные – в крестьянских. Для сравнения, из Белозерского, Вологодского уездов и Чарондонской округи было 11 приходцев. Есть пример заселения целой деревни крестьянами из Олонецкого уезда. В Кенозерской вол. в д. Туро-во Сельцо «во дворе дворцовые крестьяне Олонецкого уезда Андомского погоста д. Слобода Степан Екимов, нищий Олонецкого уезда Толвуйского погоста д. Белохино Семен Афонасьев» [6, л. 270 об.].
Наблюдается также уход населения из Каргопольского у., в основном из его западных волостей (Кенозерская, Лекшмозерская, Водлозерская, Верхнечурьюгская), в Олонецкий уезд. Надо сказать, что цели у мигрантов этих двух уездов были разными: выходцев из Карелии больше интересовала работа по найму, каргопольцев – торговля хлебом и, главное, «уход в раскол». Упоминается 12 случаев «ухода в раскол», и в 7 из них – «в церковном расколе сгорели заживо в давних годах». В Кенозерской вол. в д. Осташевская – «крестьянин Осип Никитин сшел в Олонецкий уезд в 1712 году»; в д. Фоминская и Горбачевская тож – «крестьяне Андрей, Семен, Василей Степановы дети съехали для продажи хлеба в Олонецкий уезд»; в д. Фоминская и Горбачевская тож – «крестьяне Иван, Семен съехали для продажи хлеба в Олонецкий уезд, Еремей живет на Выгу в расколе Савины дети». В Водлозерской вол. в д. Осиповская Александровская Коргостров тож – «крестьянин Сидор в давних годах сшел в Олонецкий уезд безвестно». В Лекшмозерской вол. 8 дворов в деревнях Ившинская, Хвалынская, Киль-на, Масельга, Соцково, Ульяновская Пустая стали пустыми по причине «ухода в раскол» их жителей. В д. Ившинская – «крестьянин Трифан “ушел в раскол” в давние годы», в д. Соцково – крестьянин Иван на Олонце в церковном расколе сгорел с женой в давних годах». В Архангельской вол. в д. Мишковская – «крестьянин Михайло Ефимов и жена его Марфа Петрова дочь ушли в раскол». В вол. Верхнечурь-югская в д. Исаковская Абунина тож– «крестьяне Емельян и Логин Михайловы дети Шилова, зять Терентий Пахомов и сын его Афонасей живут в Олонецком уезде на Выгу» [6, л. 128– 491 об.].
Миграция населения Каргопольского у. была также связана с отхожим промыслом, одно из направлений – работа на сплаве в Вологде. В Кенозерской вол. в д. Кутин Наволок «Никита сшел на сплав к Вологде»; в Троицкой вол. в д. Осиново «Гаврило в отлучке на Вологде на сплаве». Возможно, что в поисках заработка жители деревень уходили в Каргополь, Архангельск, и при этом известно всего 8 случаев ухода в Сибирские Города и 4 – в Важский уезд. В Кенозерской вол. в д. Кривцова – «крестьянин Иван сшел в Важ-ский уезд от хлебной скудности». В вол. Большая Шалга в д. Глазова – «Алексей Яковлев съехал к Каргопольскому Городу, дядя двоюродный Петр Гаврилов в отлучке у Архангельского Города». В вол. Кенозерская в д. Фоми- на – «Василей Алексеев съехал с женой и детьми в Сибирские Города в давних годах» [6, л. 240, 569].
Известно 10 случаев ухода в монастыри. В вол. Лекшмозерской в д. Орлово – «крестьянин Федор Федоров уехал на Соловки»; в Кенозерской вол. в д. Тырышкина Гора «Василей Михайлов живет в Хергозерской пустыне»; в Почеозерской вол. в д. Першинская – «крестьянин Иван Селиванов живет в Оше-венском монастыре»; в Кенорецкой вол. на Погосте – «крестьянин Сава Макаров постригся в Кенский монастырь, а жены и детей не осталось» [6, л. 146–304].
Люди перемещались из волости в волость, из деревни в деревню в результате брачных связей. Браки происходили в основном между представителями соседних волостей, но чаще в пределах одной волости и деревни. В вол. Полуборская в д. Окуловская – «зять Печниковской волости д. Лисицыной Михайло Федоров»; в д. Медвежья – «зять Павловской волости деревни Солухинской Яков Семенов»; в д. Гриневская Осиево тож – «зять той же волости деревни Рябова Алексей Петров сорока лет»; в д. Пронина – «зять Красноляжской волости деревни Кучепалда Иван Устинов». В вол. Верхнечурьюгская в д. Лепшинская – «зять Олонецкого уезда Алексей Афанасьев»; в д. Никишевская – «зять той же волости д. Расляково Матфей»; в д. Исаковская Абунина тож – «зять той же волости д. Давыдовской Никита Михайлов»; в д. Исаковская Абунина тож – «зять Красно-ляжской волости из д. Шеины Терентий Пахомов сын»; в той же деревне – «зять той же волости из д. Нифонтольской Михаил»; в д. Нифонтовская – «зять той же деревни Иван Никитин». В Ошевенском монастыре в д. Ершова – «зять крестьянин Верхнечурь-егской волости Иван Тимофеев»; в Слободе Ошевенского монастыря – «зять той же деревни Терентий Максимов»; в д. Дальний Ха-луй – «зять той же деревни Василей Яковлев». В вол. Кенозерская в д. Рышкова – «зять той же волости Иван Ефремов». В вол. Кенорец-кая в д. Аверкиева – «зять той же волости д. Стерешевской Иван Осипов»; в д. Драни-кова Гриневская – «зять Архангельской волости д. Осиновой Андрей Иванов»; в д. Про-щелыгинская Сомыловская тож – «зять
Павловской волости Никольской половины д. Калитинской Исак Степанов». В вол. Над-порожская в д. Перфильева – «зять Архангельской волости д. Борановская Иван Васильев». В вол. Олеховская в д. Еркинская – «зять Над-порожской волости д. Митинской Василей Тимофеев»; в д. Пантелеевская – «зять Ловзунг-ской волости с погоста Гаврило Агеев». В Устьволожской вол. в д. Ларионовская – «зять той же волости деревни Трегубово Степан Сергеев»; в д. Онашенская – «зять той же деревни Лука Иванов»; в д. Туровская – «зять той же волости д. Семаковской Афонасей Яковлев»; в д. Екимовская – «зять Малошалгской волости д. Середка Данило Иванов». В вол. Волосовская в д. Заболотная Ве-селковская тож – «зять той же волости д. Га-невской Ефрем Афонасьев». В вол. Архангельская в д. Маргачевская – «зять Федор Федоров из той же деревни»; в д. Никулинская – «зять той же волости из д. Мариинской Фома Мартынов». В вол. Троицкая в д. Фефиловс-кая – «теща Кенозерской волости д. Качако-вы Горки вдова Анна Федорова дочь жена Трофимова»; в д. Онуковская – «зять той же волости д. Андреевской Спиридон Селиверстов»; в д. Никольская – «зять той же волости д. Михалевской Яков Михайлов»; в д. Никольская – «зять той же деревни Василей Петров». В вол. Плеская в д. Антушевская – «зять Каргопольского уезда Почезерской волости д. Нечаево крестьянин Иван Фомин сын»; в д. Ручевская – «зять Троицкой волости д. Оси-ново Никита Андреев»; в д. Михайловская – «зять Троицкой волости д. Шарково Василей Иванов». В вол. Олга в д. Калитинская – «зять той же волости Иван Федоров». В волости Ряговской в д. Лазарева – «зять той же деревни Никифор Иванов», зять Устьволожской волости д. Кады-шыха Афонасей Петров»; в д. Фомины Горы – «зять Устьволожской волости д. Семеновской Федор Никитин». В вол. Нименгской в д. Некрасова – «зять той же деревни Петр Максимов». В вол. Вохтомской в д. Грихнов пал – «зять той же деревни Петр Яковлев»; в д. Нечаевская – «зять той же деревни Иван Федулов»; в д. Ше-стаковская – «зять той же деревни Артемий Яковлев» [6, л. 190–675, 749–817 об.].
Результаты. К началу XVIII в. в Каргопольском у. образовалась сложная социальная структура (крестьяне, церковный причт, нищие, половники, бобыли, подворники, казаки). Самыми многочисленными после крестьян были такие категории населения, как церковный причт и нищие. Во многом это объясняется наличием здесь крупных погостов. Присутствие города, большого количества монастырей и, как следствие, монастырского и посадского землевладения способствовало значительному притоку населения в Каргопольский у. из соседних районов (Олонецкий у., Белозерский у., Вологодский у., Чарондонс-кая округа). Преобладало западное направление. В основном это были выходцы из восточных погостов Олонецкого уезда. В отличие от других станов Турчасовского и Мех-реньгского, в Каргопольском у. уровень иммиграции (приход населения из других уездов) значительно превышал уровень эмиграции (уход населения в другие уезды). Брачные связи осуществлялись между представителями соседних волостей, чаще в пределах одной волости и деревни.
Список литературы Население Каргопольского уезда в начале XVIII в. (по переписной книге города Каргополя и уезда 1712-1713 гг.)
- Богословский М. М. Земское самоуправление на русском севере в XVII в.: Чтения при Московском университете. Кн. I. М., 1910. 321 с.
- Васильев Ю. С. Каргопольский уезд // Аграрная история северо-запада России XVI века. Вологда: Вологод. гос. пед. ун-т, 1978. С. 39–46.
- Воронов А. Древний народный обычай // Олонецкие губернские ведомости. 1887. № 95. С. 885–886.
- Жуков А. Ю. Водлозерская волость Карго-польского уезда: середина XVI – первая треть XVIII века // Водлозерские чтения: Ильинский погост: материалы науч. конф. (Петрозаводск, 6–10 авг. 2007 г.). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ. С. 153–160.
- Иванов П. Северная писцовая книга как материал для истории обложения М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1900. 72 с.
- Книги Переписные города Каргополя и уезда в 1712 и 1713 годах стольника коменданта Петра Васильевича Коробнина // Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 350. Оп. 1. Ед. хр. 167. Л. 1–837.
- Куликовский Г. И. «Общественный пир» в Каргопольском уезде // Олонецкие губернские ведомости. 1895. № 9. С. 5–6.
- Мельницкий А. Говоры жителей северо-восточной части Вытегорского уезда Олонецкой губернии // Живая старина. СПб., 1893. Вып. 3. С. 35–44.
- Переписная книга посада Турчасова и черных волостей Турчасовского уезда. Переписи вое- воды Василия Ивановича Жукова 1648 г. // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. № 168. Л. 1–805.
- Платежная книга Каргопольского уезда, составленная около 1560 г. по книгам письма Якова Сабурова и Ивана Кутузова 1555–1556 гг. // Материалы по истории Европейского Севера СССР: Северный археографический сборник. Вып. 2. Вологда: Вологод. пед. ин-т, 1972. С. 268–289.
- Побежимов А. И. Население Мехреньгского стана Каргопольского уезда к началу XVIII в. // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Т. 2, № 4. С. 129–139.
- Побежимов А. И. Население Поморской части Турчасовского стана Каргопольского уезда в начале XVIII в. // Вестник Томского государственного университета. История. 2016. № 3 (41). С. 11–15.
- Поляков И. Исследование по Каменному веку в Олонецкой губернии, в долине Оки и на верховьях Волги И. Полякова, члена-сотрудника Императорского Русского Географического общества. СПб.: Тип. В. Киршбаум, 1881. 159 с.
- Рыбников П. Н. Из обычаев обонежского народа: (Этнографические заметки) // Памятная книжка Олонецкой губернии за 1867 г. Петрозаводск, 1867. С. 131–136.
- Светлов Я. О говоре жителей Каргополья // Живая старина. 1892. Вып. 3. С. 28–39.
- Сотные на Водлозерскую волость 1568–1569 гг. // Материалы по истории Европейского Севера СССР: Северный археографический сборник. Вып. 2. Вологда: Вологод. пед. ин-т, 1972. С. 479–483.
- Сотные на волости Каргопольского уезда с книг письма Никиты Григорьевича Яхонтова 1561–1562 гг. // Материалы по истории Европейского Севера СССР: Северный археографический сборник. Вып. 2. Вологда: Вологод. пед. ин-т, 1972. С. 300–483.
- Тормосова Н. Каргополье. История исчезнувших волостей. Каргополь: Правда Севера, 2011. 711 с.