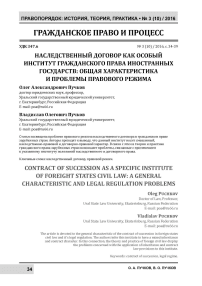Наследственный договор как особый институт гражданского права иностранных государств: общая характеристика и проблемы правового режима
Автор: Пучков О.А., Пучков В.О.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Гражданское право и процесс
Статья в выпуске: 3 (10), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме правового режима наследственного договора в гражданском праве зарубежных стран. Авторы приходят к выводу, что данный институт носит смешанный, наследственно-правовой и договорно-правовой характер. В связи с этим в теории и практике гражданского права зарубежных стран возникают проблемы, связанные с применением к указанному институту положений наследственного и договорного права.
Наследственный договор, правовой режим
Короткий адрес: https://sciup.org/14119057
IDR: 14119057 | УДК: 347.6
Текст научной статьи Наследственный договор как особый институт гражданского права иностранных государств: общая характеристика и проблемы правового режима
История наследственного договора как особого института гражданского права уходит корнями в постклассический период римского частного права. Именно тогда появилось третье - наряду с наследованием по закону и по завещанию - основание наследования, получившее изначально название pactum fiduciae (дословно - договор о доверии). По этому договору отец семейства, эмансипирующий сыновей, мог по взаимному согласию с нимиустановитьсвое право наследования определенной доли в их имуществе, т. е. назначить себя наследником в договорном порядке [6, с. 59]. Позднее практика римских юристов, изменила условия и содержание указанного договора в целях придания ему юридической силы, поскольку по общему правилу наследственные договоры (pacta de successione futura) признавались недействительными [5, с. 229]. Благодаря деятельности римских юристов было сформировано общее правовое понятие наследственного договора (pactum de hereditate) как имеющего юридическую силу «акта торжественной передачи имущества на случай смерти» лицу, которое «становилось в положение естественного наследника» [6, с. 53].
Данная конструкция наследственного договора впоследствии была перенята средневековым германским правом, что, по мнению Е Lassale, обусловило юридическую силу наследственных договоров в немецком праве [14, с. 589]. На это указывали и памятники германского права как средневекового периода, так и нового времени [7, с. 10].
Идея наследственного договора распространилась за пределы Германии только после принятия Германского гражданского уложения (далее - ГГУ Уложение) [3, с. 8]. Как отмечает H.L. Graf, Уложение регламентировало все особенности наследственного договора и, прежде всего, его смешанную наследственно-правовую и договорно-правовую природу [10, с. 97]. Так, из п. 1 и 2 § 1941 ГГУ вытекает следующее определение наследственного договора: это взаимное соглашение, по которому лицо может назначить другое лицо (являющееся или не являющееся другой стороной в договоре) наследником всего своего имущества или его части или отказополучателем при установлении легата.
Основные свойства наследственного договора, регламентированные ГГУ были впоследствии восприняты правовыми системами других стран Европы - Швейцарией, Австрией, Польшей и др. [2, с. 40-42]. Позже
-
1 Biirgerliches Gesetzbuch // Januar 2002 (BGB1. I S. 42, ber. S. 2909, ber. 2003 I S. 738).
наследственный договор появился в праве африканских [16] и латиноамериканских [21] стран. Специфическая модель наследственного договора утвердилась также в праве Англии и США [2, с. 40-42].
При этом указанные государства (за исключением стран прецедентной правовой семьи, где институт наследственного договора принципиально отличается от его европейской модели) дополняли германскую модель наследственного договора и изменяли ее сообразно требованиям времени и национальными особенностями правовой системы. Однако наибольшее развитие и распространение наследственный договор получил лишь в ряде стран, к числу которых относятся ФРГ, Англия и Швейцария. Так, в ФРГ наследственными договорами регулируется 15% всех наследственных отношений [13, с. 112], в Англии - 46,8% [20, с. 180], в Швейцарии -75% [19]. Приведенные данные свидетельствуют о том, что наследственный договор как основание наследования не только применяется наравне с традиционным завещанием, но в некоторых странах даже преобладает над ним. В связи с этим для целей настоящего исследования представляется рациональным уделить наибольшее внимание анализу наследственного договора в гражданском праве именно этих стран.
Как мы уже отмечали выше, исторически первым государством Европы, где возник институт наследственного договора, стала Германия, в цивилистической доктрине которой было сформулировано общее понятие наследственного договора (Erbvertrag). Так, известный немецкий юрист H.L. Graf определяет наследственный договор как «распоряжение на случай смерти, которое составляется двумя или более лицами в форме договора, по которому наследодатель назначает своим наследником вторую сторону договора или третье лицо» [10, с. 97].
В науке немецкого гражданского права существует понятие «сделок между живыми на случай смерти» (Zuwendungen unter Lebenden auf den Todesfall), к числу которых относят и наследственный договор. М. Harder отмечает, что по сути они представляют собой вещные сделки, правовые последствия которых возникают после смерти одной из сторон [12, с. 16]. При этом, как указывает Н.-А. Weirich, в части оснований недействительности, оспаривания, расторжения к данному институту применяются общие положения осделках(а вслучаезаключения наследственного договора - общие положения о договоре) [22, с. 139]. Действительно, наследственный договор обладает свойствами классического договора. Так, п. 3 § 2298 ГГУ устанавливает возможность расторжения наследственного договора, § 2283 - возможность его оспаривания до открытия наследства, § 2287 -возможность признания наследственного договора недействительным в случае злоупотребления правом (§ 226 ГГУ).
В то же время, как справедливо отмечает Е.П. Путинцева, «сущность наследственного договора заключается не просто в передаче какого-либо имущества в собственность другому лицу (как, например, в договоре купли-продажи), а в назначении наследника» [4, с. 71], о чем прямоуказывается в § 2273 ГГУ Данное свойство наследственного договора обусловило его обязательность для контрагентов, исключающую возможность одностороннего отказа от исполнения договора и существенно ограничивающую возможность его прекращения [1, с. 3-9]. Также ГГУ содержит указание на то, что заключение наследственного договора происходит согласно правилам, предусмотренным для составления завещания (§ 2231-2233 Уложения).
Вместе с тем классическое завещание представляет собой односторонний акт, в то время как содержание наследственного договора может включать в себя распоряжения на случай смерти как одной из сторон (односторонний наследственный договор), так и обеих сторон (двусторонний наследственный договор). При этом, если обе стороны сделают в договоре распоряжения на случай смерти, то они приобретают взаимосвязанный характер (т. е. недействительность одного из распоряжений влечет недействительность всего наследственного договора) [4, с. 69].
Тот факт, что в наследственном договоре выражается воля двух и более лиц, обусловил невозможность отменить условия данного договора путем составления завещания, противоречащего ему, поскольку завещание -это односторонний акт. Более того, ГГУ в п. 1 § 2289устанавливает правило, согласно которому заключение наследственного договора влечет за собой отмену любого распоряжения на случай смерти, сделанного до заключения данного договора, если данное распоряжение противоречит наследственному договору. В связи с этим, нельзя не согласиться с Е.П. Путинцевой, которая указывает, что в Германии «наследование по договору имеет приоритет перед наследованием позавещанию» [4,с. 17]. Также нередки случаи заключения «возмездных» наследственных договоров, в соответствии с которыми одна сторона делает распоряжение на случай смерти (к примеру, назначает вторую сторону наследником), а вторая сторона делает встречное имущественное предоставление (например, обязуется до конца жизни наследодателя выплачивать ему определенные денежные суммы) [9, с. 339]. Интерес представляет тот факт, что, в отличие от обыкновенного наследственного договора, имеющего «отложенный правовой эффект» [4, с. 67], «возмездный» наследственный договор «выступаетоснованием возникновений двух правоотношений: относительного правоотношения, возникающего с момента заключения договора между его сторонами, и абсолютного наследственного правоотношения, возникающего после открытия наследства» [4, с. 69].
Интерес представляет в связи с этим позиция Федерального Верховного Суда ФРГ, высказанная им в постановлении от 05 октября 2010 г. по делу IV ZR 30/10. Истец - наследодатель по наследственному договору - требовал расторжения договора с другой стороной - наследником, который отказался исполнять свою установленную данным договором обязанность - осуществлять уход за наследодателем в течение всей его жизни. Ответчик иск не признавал, мотивируя свою позициютем,чтоГГУ в нормах о наследственном договоре устанавливает, что встречное предоставление со стороны наследника может иметь только имущественный (но не личный) характер, в связи с чем он не обязан исполнять указанное в договоре условие ввиду его противоречия федеральному законодательству. Также ответчик указал на то, что расторжение наследственного договора возможно только по специально предусмотренным основаниям, к числу которых закон не относит неисполнение второй стороной обязанности предоставить встречное предоставление. В решении по данному делу Верховный Суд отметил, что возмездный наследственный договор, будучи основанием возникновения абсолютного и относительного правоотношений одновременно, имеет в связи с этим смешанный характер. Из этого следует, что возмездный наследственный договор подчиняется как действию норм ГГУ о наследственном договоре, так и положениям о сделках между живыми. Исходя из этого, Суд признал, что если лицо, определенное в наследственном договоре наследником, обязалось предоставить любое встречное предоставление (даже неимущественного характера), то оно должно исполнить свою договорную обязанность. В противном случае договор может быть расторгнут как на специальных основаниях, предусмотренных § 2295 ГГУ, так и на общих основания расторжения договоров, указанных в § 323 Уложения2.
Таким образом, ключевыми отличиями немецкого наследственного договора от классического гражданско-правового договора является установленная в законе цель его заключения, в случае противоречия которой договор признается недействительным, форма данного договора, а также предмет договора и основания его расторжения и признания недействительным. Вместе с тем, как мы указывали выше, наследственный договор также отличается и от классических распоряжений на случай смерти, поскольку может быть двусторонним и иметь двусто-роннеобязывающий характер, имеет большую обязательную силу (не может быть изменен в одностороннем порядке по воле одной из сторон), а также приобретает обязательную силу с момента его заключения.
Представляет интерес модель наследственного договора, утвердившаяся в гражданском праве Англии. Юридическая возможность заключения наследственного договора в Англии была установлена в 1769 г., когдасудья ПалатыЛордовЕогдСатдеп вынес решение по делу Dufour v. Pereira3. В решении указывалось, что муж и жена могут заключить соглашение, по которому каждый из них назначает своего супруга или третье лицо наследником. Предметом соглашение могла быть только доля в общем имуществе супругов, которая перешла бы в собственность сторонам договора при разводе. Данная конструкция получила название «зеркальное завещание» (a mirror will), хотя, как отмечает Orley R. Lilly Jr., по своей сути она гораздо ближе к брачному договору, чем к завещанию [18, с. 201].
«Зеркальное завещание» существовало в праве Англии в неизменном виде до вынесения решения по делу Re Oldham 1925 г.1 В данном решении судом было установлено, что «зеркальное завещание» - это один из возможных видов так называемых «взаимных завещаний» (a mutual will). Как указал суд, «взаимное завещание» - это договор, по которому стороны взаимно обязуются назначить наследниками друг друга (т. е. данный договор имеет двустороннеобязываю-щий характер) или третье лицо. При этом круг лиц, с которыми может быть заключен такой договор, не ограничен только супругами. Для придания таким договорам юридической силы, необходимо, чтобы они были заключены в присутствии не менее, чем двух свидетелей, а также были нотариально заверены, в соответствии с требованиями ст. 9 Закона о завещаниях 1837 г. (Wills Act of 1837)5. Спустя еще несколько лет в деле In re Green6 было установлено, что данный договор также имеет большую юридическую силу, чем составленное до него завещание (заключение договора влечет ничтожность завещания), поскольку объединяет волю двух лиц [18, с. 202].
Таким образом, английская модель наследственного договора имеет некоторые сходства с немецкой. Однако в последнее время понимание наследственного договора в английском гражданском праве начинает меняться. Так, если ранее судебная практика признавала наследственно-правовую проблему «взаимногозавещания»,то в настоящее время суды все больше склоняются к ее договорноправовой природе. Так, Апелляционный Суд Англии и Уэльса в решении по делу Walters V. Olins7 указал, что «взаимное завещание» может содержать условия как вещно-право-вой, так и обязательственно-правовой природы, в связи с чем применение к «взаимным завещаниям» только общих положений о завещаниях, установленных в законе, не позволяет обеспечить достаточный уровень правового регулирования. В связи с этим суд указал, что «взаимные завещания» должны также регулироваться положениями договорного права и подчиняться правилам о процессуальной защите договорных правоотношений.
В связи с этим можно сделать вывод, что, исторически сформировавшись в наследственноправовом поле, английское «взаимное завещание» постепенно приобретало все больше договорных элементов, что обусловило тот факт, что английская судебная практика начинает трактовать «взаимное завещание» как в первую очередь гражданско-правовой договор (a contract of succession).
Специфическая модель наследственного договора сформировалась в гражданском праве Швейцарии. Швейцарский Гражданский кодекс (далее - ШГК, Кодекс) в ст. 494в устанавливает, что наследственным дого- вором признается смешанный гражданско-правовой договор, по которому одна сторона -наследодатель - назначает другую сторону или третье лицо наследником, или устанавливает завещательный отказ. При этом п. 2 ст. 494 Кодекса указывает, что лицо свободно в заключении такого договора в отношении любого принадлежащего ему имущества и с любым лицом, кроме случаев, если такое лицо было признано недостойным наследником. Также, как и в ФРГ, составленные до заключения наследственного договора распоряжения на случай смерти теряют юридическую силу. В ст. 512 ШГК установлено требование к форме договора: он должен быть составлен нотариусом в присутствии двух свидетелей со слов обеих сторон договора. В то же время после заключения наследственного договора наследодатель «не теряет возможности при заключении наследственного договора при жизни распоряжаться своим имуществом, даже когда это приводит к тому, что предусмотренные наследственным договором распоряжения относительно имущества будет невозможно исполнить или они потеряют всякий смысл» [1, с. 3-9].
Основным отличием швейцарской модели наследственного договора от английской и немецкой является специфика предмета договора. Как указал Федеральный Верховный Суд Швейцарии в постановлении от 02 июля 2013 г. по делу TFLa С 19/391°, системное толкование ст. 494 и 495 ШГК позволяет сделать вывод, что наследственный договор может иметь как «позитивный» характер, так и «негативный», т. е. данный договор может как устанавливать статус наследника, так и регламентировать отказ от наследства или от отдельной его части (например, от договорных обязательств наследодателя, которые бы перешли наследнику в порядке универсального правопреемства). При этом суд отметил, что «негативный» наследственный договор может быть заключен только с лицом, которому по закону причитается обязательная доля в наследстве.
М. Metzler отмечает, что, будучи по своей природе разновидностью смешанного гражданско-правового договора, наследственный договор базируется на идее взаимовыгодно-сти договорных условий, в связи с чем одним из основных требований к наследственному договору является встречное предоставление [15]. Данное положение, как указывает ученый, ярче всего реализуется не в «пози- тивных», а в «негативных» наследственных договорах, поскольку, отказываясь от наследства, лицо таким образом освобождает себя от возможной ответственности перед кредиторами наследодателя и от риска банкротства наследственной массы [15].
Таким образом, в Швейцарии, как и в Англии, теория и практика гражданского права указывает на договорно-правовую природу наследственного договора. Отличием Швейцарской модели от немецкой и английской является юридически закрепленная возможность заключения как договоров о назначении наследника, так и договоров об отказе от наследства. Общей чертой наследственного договора в праве указанных стран является нотариальная форма его заключения.
Тем не менее, проблемы правового режима наследственного договора до сих пор не решены ни в одной указанных стран. Судебная практика и доктрина гражданского права указывают на то, что с течением времени наследственный договор в праве данных государств постепенно теряет свою специфическую природу. Е М. Hannah и М. McGregor-Lowndens полагают, что таким образом искажается сущность наследственного договора, который изначально всегда занимал особое положение в гражданском праве, сочетая в себе свойства и договора, и распоряжения на случай смерти [11, с. 5]. Как пишут авторы, усиление в правовом регулировании данного института договорных свойств, наблюдающееся в гражданском праве стран Европы, логически ведет к ослаблению его наследственно-правовой составляющей, в результате чего нарушается одно из основных начал как наследственного, так и договорного права - принцип автономии воли, поскольку, заключив наследственный договор, наследодатель уже не может изменить свое распоряжение на случай смерти без согласия второй стороны, которая в связи с этим может злоупотреблять своим правом [11, с. 5]. М. Reimann также указывает, что наследственный договор относится к числу институтов, «традиционно служащих обходу норм наследственного права, в том числе в части защиты интересов кредиторов умершего» [19, с. 219].
Интерес представляет тот факт, что в модельном ГК для ЕС (Draft Common Frame of References, далее - DCFR)10 также упоминается наследственный договор. Так, п. «Ь»
-
1,1 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline Edition. Dieter Fuchs Stiftung in Dissen (Germany). 2009
ст. 2:103 ч. X DCFR устанавливает возможность перехода по договору наследственного имущества в рамках отношений траста, что свидетельствует о том, что в большинстве стран ЕС наследственный договор уже утвердился. Об этом свидетельствует и практика ЕСПЧ. Так, в постановлении по делу Plaand Puncernauv. Andorra" ЕСПЧуказал,что Европейская Конвенция по правам человека регламентирует «диспозитивный характер наследственных правоотношений», в связи с чем государства-участники Конвенции обязаны гарантировать возможность договорного регулирования наследственных отношений. Таким образом, ЕСПЧ признал наследственный договор в качестве одной из гарантий права граждан на уважение частной и семейной жизни [17, с. 488].
Список литературы Наследственный договор как особый институт гражданского права иностранных государств: общая характеристика и проблемы правового режима
- Аболонин В. О. Общая характеристика наследственного договора в праве Германии, Австрии и Швейцарии//Нотариальный вестникь. -2010. -№ 2.
- Лоренц Д. В. Договор об отчуждении имущества на случай смерти//Нотариальный вестникь. -2015. -№ 5.
- Матвеев И. В. Наследственный договор: зарубежный опыт и перспективы появления в гражданском праве Российской Федерации//Российская юстиция. -2015. -№ 1.
- Основы наследственного права России, Германии, Франции/под общ. ред. Е. Ю. Петрова. -М.: Статут, 2015.
- Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права. -М.: Зерцало, 2007.
- Курдиновский В. И. Договоры о наследовании. Записки Императорского Новороссийского Университета юридического факультета. Выпуск IX, изданный под редакцией и. д. орд. проф. А. П. Добро-клонского. -Одесса: Типография «Техник», 1912.
- Baseler G. Die Lehre von den Erbvertägen. -1927.
- Bernard Vischer & Dr. Manuel Liatowitsch. Private client tax in Switzerland//Private Client Tax. -Second edition. -2012.
- Erbrecht: Ein Lehrbuch.
- Graf H. L. Nachlaßrecht. Handbuch der Rechtspraxis. 8 Auflage. München: C. H. Beck`sche Verlagsbuchhandlung, 2010.
- Hannah, Frances M. and McGregor-Lowndes, Myles. From testamentary freedom to testamentary duty: Finding the balance. -Brisbane: The Australian Centre for Philanthropy and Nonprofit Studies Queensland University of Technology, 2008.
- Harder M. Zuwendungen unter Lebenden auf Todesfall. Ducker & Humbolt. -Berlin, 2008.
- Kusitzky A. Ihr Wille geschehe//Focus. -2007. -№ 5.
- Lassale F. Das System der erworbenen Rechte 1861 II. Das Wesen des germanishen Erbrechts.
- Metzler M. -Ausschlagung und Erbverzicht in der dogmatischen Analyse. -Baden-Baden: Nomos; Bern: Stämpfli, 2013.
- Michael E. O. Validity of testamentary contracts and promises: by wills. -2016.
- De Schutter O. International Human Rights Law. Cases, materials, commentary. -Second Edition. -Cambridge: University Press, 2014.
- Orley R., Lilly Jr. Will Contracts: Contract Rights in Conflict with Spousal Rights//Tusla Law Review. -Vol. 20. -1984. -Issue 2.
- Reimann M. Einfuhrung in das US: amerikansche Privatrecht. -2. Aufl. -München, 2014.
- Robert K., Miller Jr., Stephen J. McNamee. Inheritance and Wealth in America. Springer Silence + Business Media, LLC. -1997.
- J. P. Schmidt. Testamentary formalities in Latin America with particular reference to Brasil//Comparative Succession Law. -Vol. 1. -2012.
- Weirich H.-A. Erben und Vererben: Handbuch des Erbrechts und der vorweggenommenen Vermögensnachfolge. -Herne; Berlin: Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, 2014.