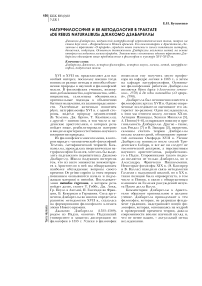Натурфилософия и ее методология в трактате «De rebus naturalibus» джакомо дзабареллы
Автор: Кузьменко Екатерина Николаевна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Языки культуры
Статья в выпуске: 2 (19), 2011 года.
Бесплатный доступ
Джакомо Дзабарелла, падуанский натурфилософ перипатетического толка, творил на стыке двух эпох - Возрождения и Нового времени. Его комментарии к Аристотелю, сделанные в трактате «О природе», придали новое значение и смысл понятиям материи, движения, индукции. Основным достижением Дзабареллы является метод, на основе которого исследуется логика природы. Знакомство с основными идеями трактата Дзабареллы обогащает наше представление о философии и культуре XVI-XVII вв.
Дзабарелла джакомо, история философии, история науки, логика, метод, натурфилософия, падуанская школа
Короткий адрес: https://sciup.org/14042595
IDR: 14042595
Текст научной статьи Натурфилософия и ее методология в трактате «De rebus naturalibus» джакомо дзабареллы
Terra Humana
XVI и XVII вв. представляют для нас особый интерес, поскольку именно тогда возникли разные методы и способы объяснения природы в научной и философской мысли. В философских учениях, возникших до бэконианства, картезианства, лейб-ницианства, галилеизма обозначились оригинальные подходы к объяснению бытия и мышления, их взаимопределенно-сти. Увлечённые античным понятием physis, натурфилософы XVI в. с одной стороны, видели природу одушевленной (Б. Телезио, Дж. Бруно, Т. Кампанелла), с другой – именно они, в том числе и падуанские аристотелики, о которых речь пойдет ниже, реабилитировали материю и вводили критерии естественно-научного восприятия природы.
Из философского многоголосия, в котором наряду с «симпатической» философией Телезио, «метафизической теорией» Кампанеллы, зарождалась неорганическая натурфилософия Галилея, хотелось бы выделить падуанского перипатетика Джакомо Дзабареллу. Школа падуанцев интересна тем, что из всего множества комментариев к Аристотелю в ней мы обнаруживаем наиболее обсуждаемые вопросы своего времени: De primo cognito (а этим первым познанием оказываются начала и подлежащая материя) и metodus. Последователями metodus regressus , о котором речь пойдет далее, станут Т. Гоббс, Дж. Локк, Гр. Поуэл в Англии, П. Гассенди во Франции, Б. Кекерман в Германии. Сила аргументов Дзабареллы во многом определила развитие методологии XVII в., сказалась на формировании философского климата эпохи Нового времени.
Джакомо Дзабарелла (1533–1589), родом из Падуи, окончил Падуанский университет и защитил диссертацию по философии в 1553 г. Успехи в философии позволили ему получить место профессора на кафедре логики в 1563 г., а затем на кафедре натурфилософии. Основными философскими работами Дзабареллы являются Opera logica («Логические сочинения», 1578) и De rebus naturalibus («О природе», 1590).
Дзабарелла был несомненно известен в философских кругах XVII в. Однако современные исследователи оценивают его авторитет по-разному. Одни исследователи, к ним мы отнесем школу логиков XX вв. Летиции Паниццы, Хеикки Миккели [3], А. Поппи [4–6], оспаривают новизну и оригинальность Дзабареллы. Другие – такие, как Рэндал [7] и В. Эдвардс [2], напротив, склонны считать теорию Дзабареллы весьма влиятельной, обоснованно принятой логиками Оксфорда XVII в. Учение Дзабареллы возникло после сессий Три-дентского Собора, и все же он следует не теологической доктрине, а перспективам научного аристотелизма, разработанного в Падуе. Сторонниками такого подхода являются не только Дзабарелла, но и Алессандро, Франческо Пикколомини. Некоторые философы XIX в. (Э. Кассирер и В. Валлас) находили связь методологии Галилея с падуанской школой, но в XX в. такая позиция была опровергнута, в том числе и Поппи, в связи с обнаруженным влиянием на Галилея рассуждений иезуита Паоло делла Валле.
Комментарии Дзабареллы к Аристотелю образуют оригинальное и цельное учение. Дзабарелла принадлежит к тем философам, которые, не разрушая фундамент традиции, надстраивают новую философию, которая, основываясь на мудрой и проверенной временем теории, давала современности вполне научный взгляд и, что не менее важно, – актуальный метод исследования.
Трактат De rebus naturalibus Дзабарел-ла начинает с определения природы и изучающей ее науки. «Мы говорим, следовательно, что философия природы есть наука созерцательная, которая способствует совершенному знанию природных тел, поскольку они имеют в себе внутренний источник движения» [9]. Поэтому началом движения ( principium motus ) являются сами тела, которые передвигаясь, приводят в движение все остальное.
Предметом тщательного анализа натурфилософа становится аристотелевское подлежащее [10, 10С–G]. Дзабарелла полагает, что движению подчиняется только тело, а не материя, и тем более не форма. Только тело может быть предметом натурфилософии: «Ничто, что не является телом, не имеет начала движения, ничто, что не имеет начала движения, не может занять в этой науке место подлежащего в соответствии с мыслью Аристотеля, но только как начало или как акциденция природного тела может иметь место в натурфилософии» [10, 11С]. Дзабарелла делит свой трактат на две части: в первых восьми книгах Дзабарелла ведет речь о роде ( genus ), во второй части и, особенно в книге De caelo , – о единичных видах ( species ). При этом наука о природе изучает не только начала, а заключает в себе знание природы в целом: «целью спекулятивной науки, является двойная цель, а именно познание начал и акциденций» [10, 15D]. Однако, в отличие от «Физики» Аристотеля, для которого наука о природе является наукой родового отличия [10, 16F–17A], натурфилософия Дзабареллы призвана объединить в себе первичное знание, знание о роде, вторичное знание, знание о виде, и только затем, знание того и другого в сочетании.
Таким образом, природа есть сущность (forma), первоматерия (principium naturale) и природная акциденция (accidens natu-rale). Ведь кроме материи, есть еще и цель, которой подвержено все сущее. Поэтому, как и цель, которая есть форма, так и материя реализуют замысел природы: «Ведь именно в низших вещах мы говорим, что форма – единственная присущая им природа и присущее им начало движения, таким образом, для Неба характерна своя природа, которая является началом движения и в пропорции соответствует форме в бренных вещах, благодаря чему определение природы является общим для всех природных тел, как временных, так и вечных» [10, 13B–C]. Небо и тела подвержены «постоянному изменению», движению. И при- родным в них является только то, что движется и претерпевает изменение. Поэтому неважно, идет ли речь о низших вещах или о телах универсума. Здесь действует принцип аналогии. Таким тождеством, безусловно, должны обладать природа материальных тел и всего универсума.
Нельзя сказать, что природа только активна, поскольку есть материя, которая пассивно принимает форму, она же есть природа этой вещи. При этом изменение (mutatio) природно, когда вещь меняется в соответствии с собственной природой, то есть в соответствии с формой. Тот же, кто видит природу только в материи, объединяет с природными движениями также искусственные. Ведь и наша природа, или природа нашего тела, также же является источником пассивного и активного движения. В этом как раз и кроется вся сущность природы. Природа вещей как источник пассивного и активного движения, очевидно, та же, что и пассивно-активная природа человека. Движимый пассивно природой собственного тела, человек обладает волей использовать необходимые формы природы, по желанию менять их свойства, тем самым участвовать в природе, не исключая себя из ее объятий. Признав все это, вполне очевидно, что материя и форма являются началами всего сущего, движение – основание действия формы в подлежащей материи. «Мы говорим, следовательно, что натурфилософия есть созерцательная наука, которая совершенно знает природные тела настолько, насколько они несут в себе начало движения...» [10, 15С].
Поскольку натурфилософия как наука должна обладать свойством точности (akribeia), то встает вопрос о том, что в познании можно считать точным. Критерию «точности» могут соответствовать даже чувства. Дзабарелла считает, что чувства играют важную роль в познании и часто, в отношении акциденций, чувства без сомнения дают точную информацию, которая требует дополнительного анализа. И эту задачу выполняет интеллект. Интеллект у Дзабареллы становится основой его эпистемологии. Отказываясь от томисткой версии и учения Платона, Аверроэса, Дзаба-релла обращается к учению Александра Афродизийского, для которого душа есть «форма формирующая» ( forma informans , тогда как Бог – только сопутствующая форма, forma assistens ). Бог не сообщает бытия Небу, а только движение. Поэтому небо, лишенное вечности, впрочем, как и интеллект, не являются доказательством бытия
Общество
Бога как перводвижителя. Интеллекту остается только познание. Выполняя формирующую функцию, интеллект, однако не является единым для всех (как у Аверроэса), а, следовательно, не является вечным. Поэтому действуя и формируя, действующий интеллект ( agente ), вместе с тем и пассивный ( patibilis , а не possibilis как у Аристотеля), осуществляют гносеологическую функцию (и не метафизическую). Таким образом, активный интеллект и есть пер-водвижитель. Не допуская единства и вечности интеллекта, Дзабарелла надеется на точность конечного по своей природе, но достоверного знания. Целью познания может быть только то, что так же конечно, как конечен наш интеллект. Поэтому мы и устремляемся к познанию природы, неба, акциденций и видов, но, не теряясь в многообразии, укрепляемся в способности души абстрагировать единичное, раскрывая причины, связывая между собой
Terra Humana
следствия.
Таким образом, знание души предполагает знание природы, а пассивно-активная природа вещей во многом отражает природу души. Однако для лучшего знания природы, ее причин и следствий, необходим метод. «Изначально Аристотель исходил от знания противоположностей, затем от подлежащей материи: чтобы знать противоположные начала достаточно было индукции ( inductio ), разумеется, познавались менее всего скрытые и легко познаваемые начала. Для материи или, точнее, для эффективного ее исследования необходимо было средство (instrumento) [познания], доказательство от следствия [ demostra-tione ab effectu ], в котором мастерски преуспел также великий Аристотель в своем словесном искусстве» [10, 134F]. Дзабарел-ла усиливает роль индукции в познании природных вещей. Благодаря индукции то, что известно по природе становится известным для нас. И в этом нам помогают чувства. Однако индукция есть лишь один вид резолюции. Вторым видом является доказательство от следствия, которое сообщает о том, что является первым для нас, но совершенно бесполезно в объяснении того, что существует по природе.
Предметом натурфилософии могут быть только primae notiones (первичные понятия), к числу которых относятся не только понятия, соотнесенные с вещами, но прежде всего, вещи, а также то, что превосходит интеллект, как Небо и Универсум. Натурфилософия, поэтому, должна знать начала, акциденции, и только затем соотнесенные между собой причины и следствия. Логика берет на себя груз натурфилософии, разрабатывая некий метод точного исследования природы. «Природа» становится предметом двойного ряда понятий. «Первичные понятия» отвечают за «вещь», «вторичные» – за «имена» и «слова». Первичными понятиями может заниматься любая наука, в то время как логика способна оперировать «именами» как истинными представлениями о вещах. При этом сама логика опирается на понятия, сформулированные натурфилософией. Вне следствий знание причин бесполезно. Природа каждой вещи доступна в процессе индукции, а целое природы стягивается в объект познания нашим интеллектом. Но чтобы точно знать целое, интеллекту нужен способ. Поэтому регрессивный метод (metodus re-gressus) играет важную роль в познании причин и следствий. Натурфилософия как наука объясняет и познает вещи через следствия, а наука логика объясняет не сами вещи, а способ, которым сознание обнаруживает универсальную связь вещей. Вот, что пишет Дзабарелла по этому поводу в своем трактате по Логике: «Подлежащее имеет две части; одна часть, которая удерживает место для материи, называется вещью созерцаемой (res con-siderata), вторая часть, которая придает месту форму, является способом изучения (рассмотрения) (modus considerandi),... созерцаемая вещь может быть общей для любых дисциплин, в то время как избранный для исследования способ свойственен только одной науке» [11, 502E].
Исследуются возможные пути пересечения логики и натурфилософии, «имен» и вещей. Если натурфилософия оперирует следствиями и феноменами, используя первичные понятия, логика, пользуясь опытом, возвышается от следствий к причинам, как к основе всякого универсального знания. В логике вступают в силу «слова», которые не удваивают, а углубляют понимание вещей. Ведь слова или имена, расположенные логически по отношению друг к другу, служат объяснением множества не связанных между собой феноменов. Вместо следствий, сознание дает знание причин. Ибо разве можно представить знание вещей помимо знания причин. Очевидная апория, в которой в любой момент сознание от следствий переходит к причинам, а от причин к самим следствиям, составляет основу логики Дзабареллы: «ведь слово является произведенным знаком, который есть в душе. Совсем иное – сотворенные вещи, как человек и животное; иное зна- чит сформированное представление, как род, вид, имя, слово, высказывание, размышление и другое; по этой причине их называют «вторичными понятиями», те же наоборот, первичными» [11, 21e–f].
Таким образом, «имена» отражают не просто « notiora nobis », а, прежде всего, « no-tiora natura » [11, 663 f]. Природа тогда раскрывается в своей целостности, считает Дзабарелла, когда в познании натурфилософ движется от следствий к причинам, а в причинах обнаруживает логику следствий и применяемого метода. Двойное направление познания начинается с индукции, и в этой индукции натурфилософия пользуется логикой, а логика в свою очередь опытом.
Дзабарелла развивает учение о природе, рассуждая о природной возможности материи принимать акцидентальные формы извне (“ aptitudo ad recipiendas formas arti-ficiosas”). Знание материи и искусственных форм также важно для натурфилософии, как для искусства. Поэтому Дзабарелла, рассуждая о формах природы, задается вопросом, а являются ли искусственные формы природой? Дзабарелла, используя основные положения физики Аристотеля, включает в понятие природы весь универсум, рассуждает ли он о небесных телах или о божественных сущностях, о природных акциденциях или искусственных формах, движении или человеческой душе. Во всем целиком присутствует единая и универсальная природа [10, 242F]. Ибо любое рассуждение о природе ведет к познанию сущности. И в данном случае, следуя принципам Аристотелевой физиологии, Дзабарелла называет сущностью форму. А формой обладает не только множество тел, но также и душа. В таком случае, можно ли назвать природой formas artificiosas? И если эти формы исходят от души, что мы можем сказать о природе души? И если душа есть то же самое, что природа, чем же тогда является природа? На все эти вопросы Дзабарелла отвечает во многом словами Аристотеля, Авиценны и умело пользуется аргументами Сим-пличио в стремлении показать и доказать ложность или истинность тех или иных положений.
Прежде всего, природой являются вещи, которые обладают внутренним началом движения и покоя. Движение бывает двух видов: оно может быть присуще изнутри или привходящим образом. Движение само по себе материально и имманентно, если же движение отчасти свойственно телу, как, например, телу, разогретому огнем, где движение возникает от огня, такое движение называется привходящим.
Ибо по движению и покою, которые находятся в самом теле, мы можем судить о самой природе, ибо она имманентно присутствует во всех вещах. Следовательно, природа есть начало движения в том, чем сама она является. В познании природы мы познаем то, что существует по природе, и что обладает внутренней склонностью ( internam propensionam ) к движению. Поэтому движение называется природным в любом теле, возникает от внутреннего начала, и есть, своего рода, стремление тел к движению.
В связи с таким определением движения Дзабарелла задается вопросом о действии (“ principium agenda” ), и претерпевании (“ principium patiendi” ) [10, 233E]. В результате активного движения форма сообщается материи, пассивно принимающей любые изменения: природные (“ motus naturalis ”), враждебные (“ motus violentus ”) и искусственные (“ motus artificiosus ”). О пассивной потенции материи мы знаем, исходя из существования не только природных, но и искусственных форм. Создавая и претворяя в жизнь собственные замыслы, человек задумывается о грани между искусством и природой. Ибо творения природы и искусства часто говорят об одном и том же, при этом движение, направленное к осуществлению, разное. Разум обнаруживает источник движения активным, как в природе, так и в искусстве, полагает, что материя вмещает в себя необходимые субстанциональные формы и формы, созданные человеком. И все же искусство отлично от природы. Искусственные вещи в отличие от природы приводятся в движение акци-дентально: «По привходящим движениям природа не отличается от искусства [от искусственных вещей], и ничто не говорит о том, что есть природа, так как искусство как начало движения также порождается в другом, следовательно, природе свойственно движение, которое возникает в том, в чем сама природа пребывает, а именно в теле, и никогда это движение не соответствует искусству, если только акциденталь-но» [10, 233A].
Речь идет об искусственных вещах, созданных искусством или механикой, а также о ремеслах, которые имеют дело с природной материей. В таком понимании материи Дзабарелла опровергает суждение Авиценны [10, 233E] и Скотта Эригены [8, p. 97] о том, что природная потенция материи включает только субстанциональные формы, то есть формы, созданные
Общество
Богом: «В отношении искусственных форм отрицают, что они обладают природной потенцией» [10, 247E]. И все же нельзя не признать, что в привходящем движении материя пассивно принимает формы, созданные искусством или механикой. Не потому, что в материи сказывается природа, также как и в форме, но именно потому, что душа человека выступает в роли causa effectrix.
В создании природных и искусственных форм Дзабарелла отмечает движения души и природы по совпадению. И в этом автор опровергает утверждение Симпли-чио о том, что душа не есть природа, что душа активна (forma informans), а природа пассивна. В учении Симпличио природное называется одушевленным, когда содержит в себе душу, но когда природа содержит в себе только элементы, природа и душа различны по определению, следовательно, природа не есть душа. Симпли-чио уверен в том, что природа находится в подлежащем, тогда как душа не находится там, поскольку душа не есть природа. На что Дзабарелла отвечает, что природа всегда существует в подлежащем, и что в природных телах есть также тела одушевленные, поэтому природа одушевлена, а душа является природой [10, 235F]. В подтверждение Дзабарелла приводит следующие аргументы. Природа намного шире и охватывает все природные формы, в том числе противоположные. Имя природы, следовательно, применимо к самой природе и к душе. «Таким образом, если душа коренится в материи и придает ей форму, дает ей одушевленные тела, без сомнения, душа находится в подлежащем и является природой таких тел, которые не отрицал Симпличио, как питательной души, так и души чувственной» [10, 252C]. Что касается рациональной части души, Дзабарелла считает, что если душа является формирующей материю формой, дающей человеку бытие, то природой можно считать и самого человека.
Полагая, что материя является восприемницей всевозможных форм, Дзабарелла погружает сознание человека в гигантский природный механизм, составленный из множества элементов, разлагаемых в свою очередь на множество других. И этот мысленный «образ» удобен в процессе познания универсального порядка природы. Познать природу значит знать то, как функционирует целостный механизм природы и каждой его части.
Таким образом, натурфилософия Дза-бареллы и есть наука о природе, в которой отводится новое место индукции, чувственному познанию вещей. Формирующая способность души обеспечивает возможность реализации новых форм, в том числе искусственных. А поскольку душа смертна, в силу смертности интеллекта, главной задачей натурфилософа является не установление бессмертия души, чем занимается церковь, а точное и достоверное знание природы: вещей (необходимых, акцидентальных и искусственных), Неба и Универсума. Используя первичные понятия, натурфилософ дает пищу для логика, а логик обеспечивает методом натурфилософию. Методология, введенная в науку Дзабареллой, оказывала влияние на философские круги XVII в. Логические изыскания Локка и Гоббса, которые читали либо самого Дзабареллу, либо довольно известный для логиков, преподавателей Оксфорда, трактат Гриффина Поуэла [1], напоминают учение Дзабареллы. Перипатетическая мысль уже близится к порогу Нового времени, включает в себя новые направления философии, в том числе все более нарастающее увлечение методом.
Terra Humana
Список литературы Натурфилософия и ее методология в трактате «De rebus naturalibus» джакомо дзабареллы
- Griffin Powell. L'analysis analiticorum posteriorum sive librorum Aristotelis de Demonstratione. -Oxford, 1594.
- Edwards W. F. The Logic of Iacopo Zabarella (1533-1589). Unpublished Ph.D. thesis. Columbia University. -1960.
- Mikkeli H. An Aristotelian Response to Renaissance Humanism: Jacopo Zabarella on the Nature of Arts and Sciences. -Helsinki: Finnish Historical Society, 1992. -196 p.
- Poppi A. Saggi sul pensiero inedito di P. Pomponazzi. -Padova 1994.
- Poppi A. Introduzione all'aristotelismo padovano. -Padova 1970;
- Poppi A. La dotrina della scienza in Giacomo Zabarella.-Padova, 1972.
- Randall J.H. The School of Padua and the Emergence of Modern Science. -Padova, 1961. -141 p.
- Rossi P. La scienza e la filosofia dei moderni. -Torino, 1989. -313 p. 97
- Zabarella J. De rebus naturalibus. Libri XXX. -Cologne, 1590.
- Zabarella J. De rebus naturalibus. Libri XXX. -Francofurti,1607
- Zabarella J. Opera logica. Zetzner. -Kцln, 1597.
- Zabarella J. Opera logica. Zetzner. -Kцln, 1597.