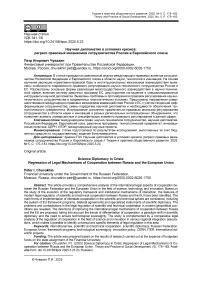Научная дипломатия в условиях кризиса: регресс правовых механизмов сотрудничества России и Европейского союза
Автор: Чувахин П.И.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится комплексный анализ международноправовых аспектов сотрудничества Российской Федерации и Европейского союза в области науки, технологий и инноваций. На основе изучения эволюции нормативноправовой базы и институциональных механизмов взаимодействия выявлены особенности современного правового регулирования научнотехнического сотрудничества России и ЕС. Рассмотрены основные формы реализации межгосударственного взаимодействия в научнотехнической сфере, включая систему рамочных программ ЕС, двусторонние соглашения и специализированные инструменты научной дипломатии. Выявлены проблемы и противоречия в правовом регулировании научнотехнического сотрудничества в современных геополитических условиях. Предложены направления совершенствования международноправовых механизмов взаимодействия России и ЕС с учетом тенденций дифференциации сотрудничества, смены парадигмы научной дипломатии и необходимости обеспечения технологического суверенитета. Исследование дополнено сравнительноправовым анализом регулирования сотрудничества в области науки и инноваций в разных региональных интеграционных объединениях, что позволяет выявить универсальные и специфические элементы правового регулирования в данной сфере.
Международное право, научно-техническое сотрудничество, научная дипломатия, Российская Федерация, Европейский союз, рамочные программы, технологический суверенитет, инновационная политика, ЦЕРН, ИТЭР, международные научные проекты
Короткий адрес: https://sciup.org/149148036
IDR: 149148036 | УДК: 341.1/8 | DOI: 10.24158/tipor.2025.5.23
Текст научной статьи Научная дипломатия в условиях кризиса: регресс правовых механизмов сотрудничества России и Европейского союза
Москва, Россия, ,
Moscow, Russia, ,
Международное сотрудничество в сфере науки, технологий и инноваций (НТИ) представляет собой один из наиболее динамично развивающихся аспектов международных отношений в XXI веке. В условиях глобальных вызовов, включая изменение климата, пандемию, продовольственную безопасность и исчерпание природных ресурсов, именно интеграция научно-технических потенциалов различных государств становится ключевым фактором эффективного противодействия угрозам общепланетарного масштаба.
Взаимодействие России и Европейского союза в сфере НТИ имеет особое значение для обеих сторон, поскольку исторически опирается на фундаментальные научные школы, многолетние традиции профессиональных контактов, географическую близость и дополняющие друг друга научно-технические компетенции. За последние три десятилетия сформировалась разветвленная система международно-правовых механизмов научно-технического сотрудничества России и ЕС, включающая соглашения различных уровней, институциональные структуры и финансовые инструменты.
Актуальность исследования международно-правовых механизмов научно-технического сотрудничества России и ЕС обусловлена несколькими факторами. Во-первых, в условиях геополитической турбулентности научная дипломатия становится одним из немногих каналов конструктивного взаимодействия, способным сохранять диалог даже в периоды обострения политических противоречий. Во-вторых, трансформация глобальной научно-технологической архитектуры, характеризующаяся формированием новых центров технологического развития и изменением правил научнотехнической кооперации, требует переосмысления традиционных подходов к правовому регулированию международного сотрудничества. В-третьих, активизация политики технологического суверенитета в России и странах ЕС создает новые вызовы для правового обеспечения баланса между национальными интересами и международным научно-техническим сотрудничеством.
Целью настоящего исследования является комплексный анализ эволюции, современного состояния и перспектив развития международно-правовых механизмов научно-технического сотрудничества России и Европейского союза. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: проследить эволюцию нормативно-правовой базы сотрудничества России и ЕС в сфере НТИ; выявить особенности современных правовых инструментов регулирования взаимодействия; проанализировать институциональные механизмы сотрудничества; оценить влияние геополитических трансформаций на правовой режим научно-технического взаимодействия; предложить направления совершенствования международно-правовых механизмов сотрудничества России и ЕС с учетом современных тенденций и вызовов.
Методологическую основу исследования составляет комплекс взаимодополняющих методов: историко-правовой метод применен для периодизации этапов эволюции правовых механизмов сотрудничества; сравнительно-правовой анализ использован при сопоставлении договорных инструментов различных периодов; формально-юридический метод задействован при интерпретации нормативных положений международных соглашений; системный подход обеспечил целостное рассмотрение взаимосвязи политических, правовых и институциональных аспектов научной дипломатии.
Концептуальные основы научной дипломатии в отношениях России и ЕС . Взаимодействие России и Европейского союза в сфере науки, технологий и инноваций органично вписывается в концептуальные рамки научной дипломатии, которая в последние десятилетия сформировалась как особое направление международных отношений. Научная дипломатия представляет собой многогранный феномен, сочетающий элементы классической дипломатии, международного научно-технического сотрудничества и публичной дипломатии.
В доктрине международного права и международных отношений существуют различные подходы к определению научной дипломатии. Американская ассоциация содействия развитию науки (ААСРН) определяет главную цель научной дипломатии как «использование международного научного сотрудничества в целях укрепления коммуникации и сотрудничества между народами различных наций, а также для продвижения глобального мира, процветания и стабильно-сти»1. М.Д. Романова, анализируя различные измерения и практики научной дипломатии, обращает внимание на ее инструментальный характер в межгосударственных отношениях и трансформацию ее роли в условиях глобальных вызовов (Романова, 2017). Данный подход акцентирует внимание на универсальных целях научного сотрудничества и его потенциале для преодоления политических разногласий.
В европейской традиции, представленной в работе В. Турекяна и П. Глюкмана, научная дипломатия понимается как «интерфейс между наукой, технологиями и инновациями, с одной стороны, и внешней политикой ‒ с другой, направленный на эффективное использование научных знаний в процессе формирования и реализации внешней политики, а также на применение дипломатических инструментов для развития международного научно-технологического сотрудничества» (Turekian, Gluckman, 2024: 52). Такой подход подчеркивает двунаправленный характер взаимодействия между наукой и дипломатией.
Российский исследователь И.Н. Васильева определяет научную дипломатию как совокупность международно-правовых и дипломатических методов, средств и институтов, используемых государствами для развития международного научно-технического сотрудничества и решения глобальных проблем на основе научных знаний (Васильева, 2019). В данном определении прослеживается интеграция международно-правового и международно-политического подходов, что отражает комплексный характер феномена научной дипломатии.
Королевское общество Великобритании в сотрудничестве с ААСРН выделило три измерения научной дипломатии: «наука в дипломатии» (использование научных знаний для информирования и поддержки дипломатических решений), «дипломатия для науки» (дипломатические усилия по установлению и развитию международного научного сотрудничества) и «наука для дипломатии» (использование научного сотрудничества для улучшения международных отноше-ний)1. Это триединство измерений в полной мере проявляется в отношениях России и ЕС, где научно-техническое сотрудничество одновременно служит источником экспертизы для принятия политических решений, объектом дипломатических усилий и инструментом улучшения отношений в периоды политической напряженности.
Особенностью научной дипломатии в отношениях России и ЕС является ее специфическая субъектная структура. Россия и Европейский союз, обладая разной полнотой международной правосубъектности, являются отличными субъектами международного права и, соответственно, имеют различную внутреннюю организацию. ЕС, получив международную правосубъектность после вступления в силу Лиссабонского договора, обладает сложной системой распределения компетенций в сфере НТИ между наднациональным и национальным уровнями управления. Согласно Договору о функционировании Европейского союза (ДФЕС), научные исследования и технологическое развитие относятся к сфере совместной компетенции ЕС и государств-членов, причем ЕС не обладает исключительной компетенцией в данной области2. Это создает многоуровневую систему правового регулирования научно-технического сотрудничества, включающую нормы права ЕС, национальные законодательства государств-членов и международные договоры различного статуса.
Номинальной концептуальной основой научной дипломатии между Россией и ЕС декларировались принципы функционализма, прагматизма и тематической дифференциации. Однако фактическое взаимодействие последних лет демонстрирует доминирование политических интересов над прагматическими соображениями, что привело к практически полному свертыванию официальных каналов сотрудничества, несмотря на их взаимную научно-технологическую ценность. Функционализм проявляется в стремлении деполитизировать научно-техническое взаимодействие, сосредоточившись на решении конкретных научно-технических задач. Прагматизм выражается в ориентации на взаимовыгодные проекты, имеющие практическую ценность для обеих сторон. Тематическая дифференциация предполагает развитие сотрудничества в тех областях, где политические противоречия минимальны, а научно-технический потенциал взаимодействия максимален.
Эволюция концептуальных подходов к научной дипломатии в отношениях России и ЕС отражает общие тенденции трансформации международного научно-технического сотрудничества. Если в 1990-е гг. преобладала парадигма «научной помощи» со стороны ЕС и «интеграции» российской науки в европейское исследовательское пространство, то к началу 2000-х гг. сформировалась модель «равноправного партнерства», основанного на взаимном интересе и дополняемости научно-технических потенциалов. В 2010-е гг. на передний план вышла концепция «селективного взаимодействия», предполагающая сотрудничество в приоритетных областях при сохранении технологической автономии в стратегических секторах. Современный этап характеризуется формированием новой парадигмы «адаптивного политизированного прагматизма», сочетающей ограничения, связанные с геополитическими противоречиями, и сохранение отдельных каналов научно-технического взаимодействия, имеющих универсальное значение.
Важным аспектом современного понимания научной дипломатии является ее концептуализация в практико-ориентированной литературе. П.-Б. Руффини, проведя критический анализ подходов к научной дипломатии в работах практиков международных отношений, выявил тенденцию к расширению содержания данного понятия и его адаптации к новым геополитическим реалиям (Ruffini, 2020). Это свидетельствует о гибкости концепции научной дипломатии и ее способности эволюционировать в соответствии с трансформацией международных отношений.
Эволюция международно-правовой базы научно-технического сотрудничества России и ЕС . Формирование международно-правовой базы научно-технического сотрудничества России и Европейского союза прошло несколько этапов, каждый из которых отражает особенности политического контекста, экономических возможностей и приоритетов научно-технологического развития сторон.
Первый этап (1991‒1997 гг.) характеризуется становлением правовых основ сотрудничества в условиях трансформации политической и экономической систем России. Ключевым документом этого периода стало Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, подписанное на острове Корфу 24 июня 1994 г.1 Статья 62 СПС определила основные направления сотрудничества в сфере науки и технологий, включая обмен научно-технической информацией, совместную научно-исследовательскую деятельность, мероприятия по подготовке кадров и программы мобильности для ученых и исследователей. Значимой особенностью СПС была его рамочная природа, предполагавшая конкретизацию форм и механизмов сотрудничества в специализированных соглашениях и программах.
Важным правовым инструментом первого этапа стала программа технической помощи Европейского союза странам СНГ (ТАСИС)2, в рамках которой осуществлялось финансирование совместных научно-исследовательских проектов. Правовой основой ТАСИС служил Регламент Совета ЕС № 2157/91 от 15 июля 1991 г., впоследствии замененный Регламентом № 1279/96 от 25 июня 1996 г.3 Хотя ТАСИС формально не являлась международным договором между Россией и ЕС, ее реализация требовала заключения специальных соглашений о финансировании конкретных проектов, что создавало разветвленную систему договорных отношений на проектном уровне.
Второй этап (1997‒2006 гг.) ознаменовался углублением и институционализацией научнотехнического сотрудничества. Центральным документом этого периода стало Соглашение между Правительством Российской Федерации и Европейским сообществом о сотрудничестве в области науки и технологий, подписанное в Брюсселе 16 ноября 2000 г.4 Данное соглашение впервые создало комплексную правовую основу для научно-технического сотрудничества, определив принципы, направления и формы взаимодействия. Особое внимание в соглашении уделялось вопросам интеллектуальной собственности, что отражало возросшую значимость коммерциализации результатов научных исследований и инновационного аспекта сотрудничества.
В 2003 г. на саммите Россия-ЕС в Санкт-Петербурге была принята политическая декларация о создании четырех общих пространств, включая Общее пространство исследований и образова-ния5. Хотя данная декларация не имела статуса международного договора, она определила стратегические направления развития сотрудничества и послужила основой для принятия в 2005 г. «дорожных карт» по формированию общих пространств. «Дорожная карта» по общему пространству науки и образования предусматривала конкретные механизмы сотрудничества, включая создание Постоянного совета партнерства по науке и технологиям и интеграцию российских научных организаций в рамочные программы ЕС по исследованиям и технологическому развитию.
Третий этап (2006‒2014 гг.) характеризуется переходом к модели «стратегического партнерства» и диверсификацией правовых механизмов сотрудничества. Важным юридическим событием стало подписание в 2007 г. Соглашения между Правительством Российской Федерации и Европейским сообществом по атомной энергии о сотрудничестве в области ядерной безопас-ности1. Этот документ создал правовую основу для взаимодействия в одной из наиболее наукоемких и стратегически значимых областей.
В 2008 г. было заключено Соглашение между Правительством Российской Федерации и Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса2. Это соглашение, хотя формально не являлось договором с ЕС, имело важное значение для интеграции России в европейскую научно-исследовательскую инфраструктуру, поскольку большинство членов ЦЕРН являются государствами-членами ЕС.
Особенностью данного этапа стало развитие секторальных диалогов между Россией и ЕС по различным аспектам научно-технического сотрудничества. Эти диалоги, не имея формального статуса международных договоров, тем не менее создавали устойчивые механизмы межведомственного взаимодействия и экспертных консультаций, фактически выполняя функцию «мягкого права» в регулировании сотрудничества.
Четвертый этап (2014‒2022 гг.) характеризуется нарастающими противоречиями в политических отношениях при сохранении основных правовых механизмов научно-технического сотрудничества. После введения санкций ЕС в отношении России в 2014 г. многие политические форматы взаимодействия были заморожены, однако Соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий было продлено в 2014 и 2019 гг., что подтверждало заинтересованность сторон в сохранении научных контактов даже в условиях политической напряженности.
Важной особенностью правового регулирования на данном этапе стало нарастание асимметрии в сфере научно-технического сотрудничества. Если Россия продолжала придерживаться принципа открытости и интернационализации научных исследований, то ЕС все больше ориентировался на концепцию «стратегической автономии», предполагающую ограничение доступа третьих стран к критически важным технологиям и исследовательской инфраструктуре.
Пятый этап (с 2022 г. по настоящее время) характеризуется деградацией и фактической инволюцией правовой основы научно-технического сотрудничества в условиях беспрецедентного обострения политических противоречий, что отражает общий регресс в отношениях России и ЕС. В марте 2022 г. Европейская комиссия объявила о приостановке действия соглашений о научно-техническом сотрудничестве с Россией, включая Соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий 2000 г.3 Российские научные организации были исключены из программы «Горизонт Европа», а совместные проекты, финансируемые из бюджета ЕС, были заморожены или реструктурированы для исключения российского участия4.
В июне 2022 г. Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) объявила о прекращении статуса России как наблюдателя и приостановке действия Соглашения о научно-техническом сотрудничестве 2018 г.5 Это решение стало символическим разрывом одного из наиболее устойчивых и продуктивных каналов научного взаимодействия между Россией и Европой.
В этих условиях правовая основа научно-технического сотрудничества России и ЕС фактически сведена к двусторонним соглашениям между российскими научными организациями и исследовательскими учреждениями государств-членов ЕС, а также к многосторонним конвенциям универсального характера, участниками которых являются как Россия, так и государства-члены ЕС. Примером таких многосторонних правовых механизмов остается Соглашение о строительстве и эксплуатации Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) от 21 ноября 2006 г.6, в котором участвуют Россия и Евратом как представитель ЕС.
Тем не менее, даже в условиях формального замораживания большинства правовых механизмов сотрудничества, негласное взаимодействие российских и европейских ученых продолжается по целому ряду направлений, имеющих общечеловеческое значение, таких как изменение климата, ядерная и радиационная безопасность, борьба с инфекционными заболеваниями. Правовым основанием для такого сотрудничества становятся нормы международного обычного права, общие принципы права, а также сохраняющие свое действие универсальные международные конвенции по соответствующим вопросам.
Институциональные механизмы научно-технического сотрудничества России и ЕС . Эффективность международно-правового регулирования научно-технического сотрудничества в значительной степени зависит от институциональных механизмов, обеспечивающих реализацию норм международного права и соответствующих соглашений. В случае России и ЕС такие механизмы формировались постепенно, отражая эволюцию правовой базы и политического контекста сотрудничества.
Ключевым институциональным механизмом, предусмотренным Соглашением о сотрудничестве в области науки и технологий 2000 г., стал Совместный комитет Россия-ЕС по научнотехническому сотрудничеству. Данный орган, состоящий из равного числа представителей Европейской комиссии и российских министерств и ведомств, был уполномочен определять приоритетные направления сотрудничества, разрабатывать рекомендации по совместным программам и проектам, а также контролировать выполнение соглашения. Совместный комитет регулярно собирался до 2014 г., после чего его деятельность была фактически приостановлена, хотя формально он продолжал существовать до 2022 г.
Важным институциональным элементом сотрудничества являлись тематические рабочие группы, созданные в рамках Совместного комитета для координации взаимодействия по конкретным научным направлениям. Эти группы, объединявшие экспертов из России и стран ЕС, обеспечивали оперативное взаимодействие на уровне конкретных исследовательских программ и проектов. Особенно активно функционировали рабочие группы по таким направлениям, как нанотехнологии, новые материалы, информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, космические исследования и здравоохранение.
Постоянный совет партнерства (ПСП) по науке и технологиям, созданный в рамках реализации «дорожной карты» по общему пространству науки и образования, представлял собой механизм политического диалога на высоком уровне. В состав ПСП входили министры или их заместители от России и государств-членов ЕС, а также представители Европейской комиссии. ПСП определял стратегические направления сотрудничества, обеспечивал политическую поддержку крупных совместных инициатив и разрешал возникающие проблемы и противоречия. Заседания ПСП проводились ежегодно до 2013 г., после чего этот механизм был фактически заморожен в контексте общего охлаждения политических отношений.
Особое место в институциональной архитектуре сотрудничества занимали контактные точки (National Contact Points, NCPs) программ ЕС по исследованиям и инновациям, созданные в России при ведущих научных учреждениях. Эти структуры, не имея формального международно-правового статуса, играли важную роль в информационном обеспечении сотрудничества, помогая российским ученым находить европейских партнеров и участвовать в программах ЕС. Сеть российских контактных точек активно функционировала до 2022 г., обеспечивая интеграцию российских исследователей в европейское научное пространство.
Для координации взаимодействия в области инновационного развития в 2010 г. была создана Рабочая группа Россия-ЕС по сотрудничеству в инновационной сфере, действовавшая в рамках Диалога Россия-ЕС по промышленной и предпринимательской политике. Данный механизм фокусировался на практическом применении результатов научных исследований, коммерциализации технологий и развитии инновационной инфраструктуры. Рабочая группа была особенно активна в период реализации программы «Партнерство для модернизации» (2010‒2013 гг.), но после 2014 г. ее деятельность была значительно сокращена.
Значимую роль в институциональном обеспечении научно-технического сотрудничества играли научно-исследовательские фонды России и ЕС, такие как Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Российский научный фонд (РНФ) и Европейский исследовательский совет (ERC). Эти организации заключали соглашения о сотрудничестве, проводили совместные конкурсы исследовательских проектов и обеспечивали финансирование мобильности ученых. Особую ценность имел механизм «скоординированных конкурсов» (coordinated calls), при котором каждая сторона финансировала своих участников совместного проекта в соответствии с собственными правилами и процедурами, но при согласованной тематике и координации исследовательских задач.
Для обеспечения научно-технического сотрудничества в стратегически значимых областях создавались специализированные институциональные структуры. Примером может служить Координационный комитет по сотрудничеству Россия-ЕС в области мирного использования атомной энергии, действующий в рамках соответствующего соглашения между Россией и Евратомом. Этот орган обеспечивал реализацию совместных проектов в области ядерной безопасности, управления ядерными отходами, ядерных технологий нового поколения и термоядерного синтеза.
Важным институциональным элементом сотрудничества являлись совместные научно-исследовательские центры и лаборатории, создаваемые российскими и европейскими научными организациями. Такие центры, действуя на основе двусторонних соглашений, обеспечивали постоянную платформу для проведения совместных исследований, обмена учеными и использования уникального научного оборудования. Примером успешной реализации такого подхода может служить создание в России международных исследовательских центров с участием европейских ученых в рамках программы мегагрантов Правительства Российской Федерации.
Следует отметить, что после 2022 г. большинство институциональных механизмов научнотехнического сотрудничества России и ЕС были либо формально приостановлены, либо фактически прекратили свое функционирование. Тем не менее некоторые элементы институциональной инфраструктуры продолжают действовать, хотя и в ограниченном режиме. К ним относятся двусторонние соглашения между российскими и европейскими научными организациями, академические обмены на индивидуальном уровне, а также участие российских и европейских ученых в международных научных конференциях и публикация совместных научных работ.
В целом, стоит отметить, что события 2022 г. привели к беспрецедентной политизации научно-технического сотрудничества и практически полному разрыву официальных международно-правовых механизмов взаимодействия. И если Россия сохраняет открытость своей научной системы для международного сотрудничества, включая проведение совместных исследований и публикацию их результатов, то ЕС все больше ориентируется на политику «стратегической автономии», предполагающую ограничение научно-технического сотрудничества с «проблемными» странами и защиту технологического лидерства Европы.
Такая асимметрия отражается в различиях правовых позиций сторон относительно статуса существующих соглашений о сотрудничестве. Российская сторона считает односторонние решения ЕС о приостановке соглашений неправомерными, поскольку они не соответствуют порядку прекращения или приостановления действия международных договоров, предусмотренному Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 г. ЕС, в свою очередь, обосновывает свои действия концепцией «существенного изменения обстоятельств» (clausula rebus sic stantibus).
Геополитические факторы оказывают различное влияние на разные направления научнотехнического сотрудничества. Наименее подвержены политическому влиянию области фундаментальной науки, не имеющие прямого военного или экономического применения, а также сферы, связанные с глобальными вызовами, требующими международной кооперации (изменение климата, пандемия, астероидная опасность). Наиболее чувствительными к геополитическим факторам являются технологии двойного назначения, критические технологии, обеспечивающие экономическое или военное превосходство, а также направления, связанные с добычей и переработкой стратегически важных ресурсов.
Важным аспектом влияния геополитических факторов на правовое регулирование научнотехнического сотрудничества является растущая конкуренция за глобальное научно-технологическое лидерство между основными центрами силы: США, Китаем и ЕС. Россия, находясь в поиске своего места в формирующейся многополярной системе международных отношений, стремится диверсифицировать научно-технические связи, развивая сотрудничество как с традиционными партнерами в Европе, так и с новыми центрами научно-технологического развития в Азии.
Эта тенденция находит отражение в правовом регулировании научно-технического сотрудничества: параллельно с приостановкой соглашений с ЕС Россия активизирует правовые механизмы сотрудничества в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС и на двусторонней основе с такими странами, как Китай, Индия, Бразилия, Иран. Показательно, что в 2022 г. в рамках председательства России в БРИКС была принята Московская декларация, определяющая новые направления научно-технического сотрудничества в рамках объединения, включая создание общих подходов к наукометрическим базам данных и интеграцию новых членов объединения в существующие процессы взаимодействия.
Таким образом, геополитические факторы не только влияют на содержание и применение международно-правовых норм, регулирующих научно-техническое сотрудничество России и ЕС, но и стимулируют правовое оформление альтернативных форматов сотрудничества, создавая более сложную и многоуровневую систему международно-правового регулирования научно-технической кооперации в глобальном масштабе.
Анализ эволюции и современного состояния международно-правовых механизмов научнотехнического сотрудничества России и ЕС позволяет сформулировать некоторые прогнозы относительно перспектив их развития с учетом существующих тенденций и факторов.
В краткосрочной перспективе (1‒2 года) наиболее вероятным сценарием является сохранение статус-кво, при котором большинство официальных международно-правовых механизмов сотрудничества остаются замороженными, а взаимодействие осуществляется преимущественно на уровне отдельных научных организаций и индивидуальных ученых. Правовой основой такого взаимодействия служат двусторонние соглашения между конкретными научными и образовательными учреждениями, а также многосторонние международные конвенции универсального характера, действие которых не затронуто политическими противоречиями.
В этих условиях особую значимость приобретают такие правовые инструменты, как соглашения об академической мобильности, договоры о совместных публикациях и доступе к научным данным, а также механизмы участия в международных научных конференциях и конгрессах. Важную роль играют также «нейтральные площадки» – международные научные организации и форумы, не связанные напрямую ни с Россией, ни с ЕС, но позволяющие российским и европейским ученым взаимодействовать в рамках многосторонних инициатив.
В среднесрочной перспективе (3‒5 лет) маловероятно существенное восстановление официальных каналов научно-технического сотрудничества. Если определенные контакты и сохранятся, они будут строго ограничены узким кругом неполитизированных областей (фундаментальная физика, климатические исследования), составляя не более 15‒20 % от прежнего объема взаимодействия. Нынешняя инволюция правовых механизмов сотрудничества России и ЕС представляет собой не временное явление, а фундаментальный сдвиг в парадигме международного научного взаимодействия.
Правовое оформление восстановления сотрудничества может начаться с секторальных соглашений по конкретным научным направлениям, что позволит избежать политически чувствительных вопросов, неизбежно возникающих при обсуждении всеобъемлющих рамочных документов. Такой подход соответствует концепции «функционализма», предполагающей, что сотрудничество в технических областях может постепенно привести к более широкому взаимодействию.
Важным правовым механизмом, способствующим восстановлению научно-технического сотрудничества, может стать концепция «наука для дипломатии», при которой научное взаимодействие используется как инструмент улучшения политических отношений. В этом контексте возможно создание специальных научно-дипломатических инициатив, ориентированных на решение общих проблем и вызовов, стоящих перед Россией и ЕС, таких как обеспечение энергетической безопасности, предотвращение техногенных катастроф, сохранение биоразнообразия.
Таким образом, перспективы развития международно-правового регулирования научнотехнического сотрудничества России и ЕС определяются сложным взаимодействием политических, технологических, экономических и социокультурных факторов.