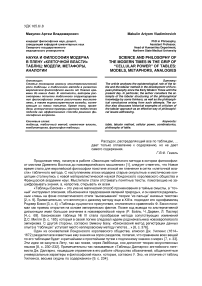Наука и философия модерна в плену «клеточной власти» таблиц: модели, метафоры, аналогии
Автор: Макулин А.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу эпистемологической роли таблицы и табличного метода в развитии европейской философской мысли от Нового времени до наших дней. В частности, автором рассмотрены попытки табличного структурирования философского знания различными мыслителями, а также мировоззренческие выводы, вытекающие из таких попыток. Кроме того, приведены исторические примеры критики табличного подхода как эффективного способа решения философских вопросов.
Таблица, табличный метод, клеточная власть, комбинаторика, философия таблицы
Короткий адрес: https://sciup.org/14940705
IDR: 14940705 | УДК: 165.6/.8
Текст научной статьи Наука и философия модерна в плену «клеточной власти» таблиц: модели, метафоры, аналогии
Рассудок, распределяющий все по таблицам, … дает только оглавление к содержанию, но не дает самого содержания.
Г.В.Ф. Гегель
Продолжая тему, начатую в работе «Эволюция табличного метода в истории философии: от мистики Древнего Востока до новоевропейского мышления» [1], следует отметить, что Новое время стало для европейской философии поистине эпохой ее пленения в сетях «клеточной власти» табличного метода. С наступлением эпохи модерна старые оккультные и мистические концепции столкнулись с новой материалистической наукой Лондонского королевского общества и Французской академии наук. Мыслители стали отстаивать понятные тексты, помогающие не зашифровывать знания, а, напротив, открывать их всем.
«Таблицы Бэкона» – это уже не магический способ проникновения в тайные смыслы, а “точный” инструмент описания, объяснения и предсказания явлений природы», и он кажется радикальным «лишь на фоне схоластического стиля “высасывания” теории “из пальца” книжных текстов» [2, с. 9]. Примечательно, что вплотную к данному методу еще в XIII в. подходил его однофамилец Роджер Бэкон [3, с. 4]. «Таблицы сущности и присутствия, отклонения и сравнений» Ф. Бэкон понимал как приемы открытия на основе эмпирических фактов. Позже ход вывода по альтернативной дизъюнкции имел большое значение в новоевропейской науке (Р. Бойль, Ч. Дарвин, Л. Пастер) [4, с. 69]. Бэконовская таблица № III стала прообразом метода сопутствующих изменений Д.С. Милля [5, с. 185], который в своей логике следовал идеям родоначальника новоевропейского эмпиризма. C другой стороны, согласно Эммону Баху, «бэконовский метод регистрации данных опыта в “таблицах” уступает место кеплеровскому методу гипотез…» [6, с. 376].
Один из основателей Лондонского королевского общества, епископ Дж. Уилкинс (1614– 1672) разделил все известные ему знания на сорок разделов, полагая, что сравнение всех вещей по его таблицам будет «кратчайшим и простейшим путем к подлинному знанию о мире» [7, с. 33]. Эти идеи не канули в Лету, так как позже, через Лейбница, они дополнят теории искусственных языков [8, с. 230–232]. Примечательны так называемые «Таблицы Далгарно» английского лингвиста Дж. Далгарно, нашедшие отражение в его работе «Искусство обозначений, общепонятные универсальные характеры и философский язык», которые, согласно У. Эко, «в отличие от таблиц Уилкинса, весьма скудны по содержанию» [9, с. 234].
Член королевского общества Ричард Бентли (1662–1742) в Бойлевских лекциях говорил о неких «вечных таблицах здравого разума», необходимых для опровержения атеизма [10, с. 34–35].
Р. Декарт в «Правилах для руководства ума» указывал на необходимость составления таблиц в процессе познания как способа удержания в памяти малозначительных деталей [11, с. 146].
Для демонстрации рациональности христианской веры Б. Паскаль создал «Пари Паскаля», по сути, таблицу, основанную на комбинации дихотомий: «Бог есть – Бога нет», «я верю в Бога – я не верю в Бога». Позже американский философ У. Джеймс прокомментировал «Пари» как азартную игру, высказав тем самым гениальную догадку о матричной форме представления теории игр (теоретико-игровые платежные матрицы с исходами, например «Дилемма Узника»). Общим знаменитым решением «Пари Паскаля» стало высказывание У. Джеймса: «Нельзя попасть в Рай одной религии, не попав в Ад всех других». Следует отметить, что у мысленного эксперимента Паскаля был теоретический предшественник, именуемый «Пари раба», который приписывают Пьеру Абеляру.
Т. Гоббс в «Левиафане» разработал таблицу «различных предметов знания», отмечая произвольный характер аристотелевской таблицы категорий и утверждая, что он «еще не видел сколько-нибудь заметной пользы от применения этих категорий в философии» [12, с. 94]. В работе «О теле» мыслитель построил собственную таксономическую «таблицу категорий» [13, с. 231]. Дж. Локк в рамках tabula rasa, которую, видимо, заимствовал у Аристотеля, сравнивавшего душу с восковой табличкой, пытался анализировать «чистую основу» сознания. В «Опытах о законе природы», рассуждая о степени врожденности закона нравственности, писал: «Мы не говорим, что этот закон природы предстает как бы записанным на таблицах в наших сердцах…» [14, с. 9–10].
Главным апологетом табличного метода стал Лейбниц, который искал некий «род общего реестра всех вещей» и составлял с этой целью таблицы. Он писал: «Составляя такие таблицы познаний, я нашел, что эти деления и подразделения и составляют связь мыслей…» [15], «…мое изобретение, построенное на всей полноте разумения, станет судией в спорах, толмачом понятий … таблицей мыслей…» [16, с. 10], подмечая также и минусы: «…редко анализ бывает чистым, ибо в поисках средств мы по большей части наталкиваемся на искусственные приемы, проистекающие … словно из таблицы или свода изобретений, и [мы] их тут же применяем: но ведь это – нечто синтетическое» [17, с. 231]. Позже эту же мысль повторит В. Гейзенберг: «…чи-стая эмпирия бесплодна, поскольку бесконечные, лишенные внутренней связи таблицы в конечном счете душат ее…» [18, с. 273].
Итак, в XVII–XVIII вв. формируются проекты всеобщей науки о порядке, что позволяет, по мнению Н.С. Автономовой, «ввести в познание вероятность, комбинаторику, исчисления, таблицы, в которых сложные сочетания элементов выводятся из их простых составляющих» [19, с. 12].
Повсеместное распространение получили статистические таблицы, в частности, после выхода в 1741 г. работы датского ученого И. Анхерсена «Описание культурных государств в таблицах». Общеизвестно, например, что представителей немецкой школы в статистике презрительно называли «рабами» таблиц, а химиков, занимавшихся построением «таблиц сродства», – «мастерами таблиц» (Tabelen dressler) [20, с. 612]. Прусский император Фридрих Вильгельм II издал указ, согласно которому многочисленные сведения, считавшиеся государственной тайной, сводились в «Исторические таблицы» (Historische Tabellen). Особенную популярность приобрели «Таблица Царства животных» К. Линнея и классификация Ж. Бюффона. З.А. Сокулер справедливо подмечала особенность этой эпохи: «Стремление уподобить дисциплинарное пространство большой таблице шло рука об руку с пристрастием к таблицам в науке» [21, с. 67].
Член Французской академии Пьер Луи Лакретель (1751–1824) мечтал о создании таблицы всех родов преступлений и наказаний [22, с. 52]. Фуко называл Лакретеля этаким «Линнеем для области преступлений и наказаний» [23]. Французский священник и педагог Жан-Батист де ла Салль (1651–1719) мечтал о классе, который «образовал бы единую большую таблицу с многочисленными графами под пристальным “классификаторским” надзором учителя» [24].
Д. Дидро в работе «Мысли к истолкованию природы» полагал, что таблицы могут помочь не слишком талантливому исследователю найти нужное направление [25, с. 322], а его «Энциклопедия» содержала 11 томов таблиц и специальные статьи, посвященные классификациям наук. Гельвеций в работе «Об уме» выразил необходимость «составить физические, метафизические, моральные и политические таблицы, где были бы с точностью указаны все различные степени вероятности и, следовательно, уверенности, с которой надо принимать каждое мнение!» [26, с. 156].
Английский мыслитель Ч. Бэббидж (1792–1871) попытался вообще поставить точку в этом вопросе и предложил поместить в таблицы все – начиная с астрономических величин и заканчивая числом студентов в знаменитых университетах и книг в крупных библиотеках.
Механистическая склонность к порядку царила во многих отраслях новоевропейской науки и философии, стремление все классифицировать и располагать на своем месте оказало огромное влияние на так называемую социоматрицу европейского общества и его культуру. Примечательно, что попытка Петра I скопировать европейские порядки закончилась организацией в России некоей социальной матрицы-таблицы «Табели о рангах», которая упорядочила социальные отношения в стране.
Гегель критиковал «табличность» при изложении философских систем, указывая на недопустимость сведения научной формы до «безжизненной схемы (Schema)» или призрака (Schemen), а научной организации – до таблицы [31, с. 26]. Сравнивая таблицы со скелетами с наклеенными на них ярлыками и закрытыми ящиками с прикрепленными к ним этикетками в бакалейной лавке, мыслитель утверждал, что таблица упускает и утаивает «живую суть дела» [32, с. 27–28], а «рассудок, распределяющий все по таблицам, … дает только оглавление к содержанию, но не дает самого содержания» [33, с. 28].
Ф. Ницше метафорически использовал понятие таблицы, рассуждая о «таблицах ценностей», «таблице побед над самим собой» [34, с. 101], о том, что все мыслители «заполняют некую краеугольную схему возможных философий» [35, с. 250]. Позже «периодическая таблица» возможных философий была впервые сформулирована в 1914 г. Р. Штейнером в работе «Человеческое и космическое мышление».
Отец позитивизма О. Конт, «не руководствуясь анатомией и будучи априори убежденным в том, что работы анатомов подтвердят его классификацию» [36, с. 10], составил «таблицу мозга», из которой явствует то, что человек – существо эгоистичное [37, с. 62].
В рамках утилитаризма И. Бентам разработал «сравнительную таблицу удовольствий» и «таблицу супружеств, которые должны быть запрещаемы».
Выстраивая концепцию языковых игр, Л. Витгенштейн в «Философских исследованиях» описал механизм игры № 86, который включал в себя таблицу как способ построения самой игры [38, с. 105].
«Таблица Биона», представлявшая собой структурированное представление развития мысли в процессе работы аппарата мышления, примечательна для психоаналитической философии [39].
В наше время термин «таблица» часто заменяют понятием «матрица» (лат. matrix – «первопричина»). В философии науки Т. Кун ввел понятие дисциплинарной матрицы, а также сравнивал алгоритм поиска нового элемента по таблице Менделеева с механизмом научного открытия [40, с. 87]; Карл Поппер составил «таблицу противоположностей» применительно к идеям Парменида в духе известной таблицы пифагорейцев [41, с. 65].
Для эвристики немаловажное значение имеет метод многомерных матриц-таблиц, или «морфологический ящик», «куб» Фрица Цвики (1898–1974). Суть последнего заключается в том, что, например, в инженерии новая конструкция продуцируется из конечного числа комбинаций известных элементов (параметров), или известных с неизвестными.
Что касается вопроса об общефилософской рефлексии табличного метода, по нашему мнению, наиболее глубокую его ревизию провел М. Фуко. Вдохновленный метафорой Борхеса о «некой китайской энциклопедии», он рассуждает о проблеме вообще какого-либо «причудливого» перечисления чего-либо в четко структурированной таблице. Саму таблицу Фуко, с одной стороны, понимает традиционно – как «область, где начиная с незапамятных времен язык пересекается с пространством» [42, с. 30], с другой – как причудливую форму познания, где, как на «операционном столе», «зонтик встречает швейную машину». Классификацию Борхеса Фуко называет «атласом невозможного», в котором изъято «место» и, следовательно, становятся возможными утешающие человека утопии [43, с. 29]. Таблица, согласно Фуко, всегда непременно связана с так называемой «клеточной властью» [44, с. 218].
Структуралист К. Леви-Стросс, пытаясь найти «последнюю структуру», полагал, что в будущем ЭВМ решат многие лингвистические проблемы путем создания некой «периодической таблицы лингвистических структур» [45]. Рассуждая о мировоззренческой роли таблицы, постструктуралист Р. Барт задавал риторический вопрос: «Читая любую классификацию, вы испытываете желание самому занять место в этой таблице: где ваша клетка?…» [46, с. 117–118].
Постмодернист Ж. Бодрийяр в работе «К критике политической экономии знака» предлагает «общую» таблицу «всех стоимостей».
В экзистенциализме интерес представляет так называемая кватерность, или четверица (Das Geviert), в философской системе М. Хайдеггера – образ четырехкратной симметричной структуры в виде перекрещивающихся линий, напоминающих крест.
Что касается классиков философии истории, то О. Шпенглер в «Закате Европы» составил «таблицу одновременных духовных эпох», Н.Я. Данилевский в работе «Россия и Европа» построил таблицу, связывающую национальность ученого и научные достижения [47, с. 187], А. Тойнби в «Постижении истории» использовал огромное количество таблиц.
Вопрос о табличном методе в русской философской мысли требует отдельного и крайне кропотливого исследования, ограничимся лишь известными концепциями: Вл. Соловьев – «таблица тройного деления: абсолютное, логос, идея» [48]; П.Г. Щедровицкий – «фасеточное зрение» и «условия полиэкранной организации пространства работы» [49, с. 68–73]; метафоры Э.В. Ильенкова о «философской таблице умножения» [50, с. 206–212]; комбинаторные опыты с научной методологией А.И. Уемова [51, с. 40]; периодическая таблица системы «природа – человек – общество» Х.А. Барлыбаева [52, с. 58–65] и др.
Итак, феномен таблицы в истории философии всегда высвечивал именно те структуры и связи, которые стандартно ускользали из поля зрения при линейном созерцании и описании. Но также важно понимать и то, что таблица для философского мировоззрения была лишь орудием и сам мыслящий наблюдатель, будучи творчески избыточным для «клеточной власти», всегда пытался покинуть ее пределы. В отношении последнего особенно точно подметил Ральф Уолдо Эмерсон: «…душа держится поодаль от слишком тривиального и микроскопического изучения мировой таблицы» [53, с. 665].
Ссылки:
-
1. Макулин А.В. Эволюция табличного метода в истории философии: от мистики Древнего Востока до новоевропейского мышления // Общество: философия, история, культура. 2015. № 6.
-
2. Юлов В.Ф. Научное мышление. Киров, 2007. 252 с.
-
3. Субботин А.Л. Концепция методологии естествознания Джона Гершеля. М., 2007. 83 с.
-
4. Платт Дж. Метод строгих выводов // Вопросы философии. 1965. № 9.
-
5. Розов Н.С. Историческая макросоциология: методология и методы. Новосибирск, 2009. 412 с.
-
6. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998. 478 c.
-
7. Large A. The Artificial Language Movement. London, 1985. 256 p.
-
8. Соломоник А. Философия знаковых систем и язык. Минск, 2002. 408 с.
-
9. Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. СПб., 2007. 423 с.
-
10. Кузнецов Б.Г. Ньютон. М., 1982. 146 с.
-
11. Декарт Р. Сочинения : в 2 т. Т. 1. М., 1989. 654 с.
-
12. Мееровский Б.В. Гоббс. М., 1975. 208 с.
-
13. Огурцов А.П. Категории // Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 3. М., 2010. С. 231.
-
14. Локк Дж. Сочинения : в 3 т. Т. З. М., 1988. 668 с.
-
15. Филиппов M.M. Готфрид Лейбниц: жизнь, общественная, научная и философская деятельность [Электронный ресурс]. СПб., 1893. URL: http://az.lib.ru/f/filippow_m_m/text_1893_leibnitz.shtml (дата обращения: 10.06.2015).
-
16. Эко У. Поиски совершенного языка ...
-
17. Нарский И.С. Готфрид Лейбниц. М., 1972. 239 с.
-
18. Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987. 366 с.
-
19. Антонова О.А. Современные проблемы использования табличных методов в логике : дис. … д-ра филос. наук. СПб., 2005. 346 c.
-
20. Гегель. Сочинения. Т. 2: Философия природы. М. ; Л., 1934.
-
21. Сокулер З.А. Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб., 2001. 238 c.
-
22. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. 478 c.
-
23. Там же.
-
24. Там же.
-
25. Дидро Д. Мысли об объяснении природы // Собрание сочинений. М. ; Л., 1935. Т. I. С. 299–356.
-
26. Гельвеций. Сочинения : в 2 т. Т. 1. М., 1973. 647 с.
-
27. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 2: Средневековье (от Библейского послания до Макиавелли). СПб., 1997. 354 с.
-
28. Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики [Электронный ресурс]. М., 1997. URL: http://www.vixri.com/d/a_filosof/Xaj-degger%20M.%20_Kant%20i%20problema%20metafiziki.pdf (дата обращения: 10.06.2015).
-
29. Ренувье Ш. Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 3. М., 2010. С. 443.
-
30. Брюшинкин В.Н. О логических ошибках в кантовской таблице суждений // Кантовский сборник. Калининград, 2008. №
-
31. Гегель. Сочинения Т. 4, ч. 1: Система наук: ч. 1. Феноменология духа. М. ; Л., 1959. XLVIII, 438 с.
-
32. Там же. С. 27–28.
-
33. Там же. С. 28.
-
34. Гранье Ж. Ницше. М., 2005. 159 с.
-
35. Ницше Ф. Сочинения : в 2 т. Т. 2. М., 1996. 846 с.
-
36. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994. 602 с.
-
37. Гуревич П.С. Философия человека. Ч. 2. М., 2001. 206 c.
-
38. Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994. 694 с.
-
39. Kurth F. Using Bion’s Grid as a Laboratory Instrument: A Demonstration // Do I Dare Disturb the Universe / ed.: J.S. Grotstein. Karnak (Book) Ltd., 1983. P. 115–137.
-
40. Кун Т. Структура научных революций / с ввод. ст. и доп. 1969 г. М., 1977. 300 с.
-
41. Поппер К. За пределами поиска инвариантов // Вопросы истории естествознания и техники. 2003. № 2. С. 674–702.
-
42. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. 406 с.
-
43. Там же. С. 29.
-
44. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. 478 c.
-
45. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 2001. 510 с.
-
46. Ролан Барт о Ролане Барте. М., 2002. 288 с.
-
47. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 2008. 702 с.
-
48. Лосев А.Ф. Вл. Соловьев. М., 1983. 206 c.
-
49. Щедровицкий П.Г. С чем войдем в XXI век : стеногр. одноим. докл. // Народное образование. 1992. № 5/6. С. 68–73.
-
50. Ильенков Э.В. Пройдена ли таблица умножения? // Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал : избр. ст.
-
51. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М., 1978. 272 с.
-
52. Барлыбаев Х.А. Периодическая таблица системы «природа – человек – общество» // Философия и общество. 2009. № 2. С. 58–65.
-
53. Антология мировой философии : в 4 т. Т. 3. М., 1971. 760 c.
2 (28). С. 7–22.
по философии и эстетике. М., 1984. С. 206–212.
Список литературы Наука и философия модерна в плену «клеточной власти» таблиц: модели, метафоры, аналогии
- Макулин А.В. Эволюция табличного метода в истории философии: от мистики Древнего Востока до новоевропейского мышления//Общество: философия, история, культура. 2015. № 6.
- Юлов В.Ф. Научное мышление. Киров, 2007. 252 с.
- Субботин А.Л. Концепция методологии естествознания Джона Гершеля. М., 2007. 83 с.
- Платт Дж. Метод строгих выводов//Вопросы философии. 1965. № 9.
- Розов Н.С. Историческая макросоциология: методология и методы. Новосибирск, 2009. 412 с.
- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998. 478 с.
- Large A. The Artificial Language Movement. London, 1985. 256 p.
- Соломоник А. Философия знаковых систем и язык. Минск, 2002. 408 с.
- Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. СПб., 2007. 423 с.
- Кузнецов Б.Г. Ньютон. М., 1982. 146 с.
- Декарт Р. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1989. 654 с.
- Мееровский Б.В. Гоббс. М., 1975. 208 с.
- Огурцов А.П. Категории//Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 3. М., 2010. С. 231.
- Локк Дж. Сочинения: в 3 т. Т. З. М., 1988. 668 с.
- Филиппов M.M. Готфрид Лейбниц: жизнь, общественная, научная и философская деятельность . СПб., 1893. URL: http://az.lib.ru/f/filippow_m_m/text_1893_leibnitz.shtml (дата обращения: 10.06.2015).
- Эко У. Поиски совершенного языка..
- Нарский И.С. Готфрид Лейбниц. М., 1972. 239 с.
- Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987. 366 с.
- Антонова О.А. Современные проблемы использования табличных методов в логике: дис.. д-ра филос. наук. СПб., 2005. 346 c.
- Гегель. Сочинения. Т. 2: Философия природы. М.; Л., 1934.
- Сокулер З.А. Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб., 2001. 238 с.
- Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. 478 с.
- Дидро Д. Мысли об объяснении природы//Собрание сочинений. М.; Л., 1935. Т. I. С. 299-356.
- Гельвеций. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1973. 647 с.
- Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 2: Средневековье (от Библейского послания до Макиавелли). СПб., 1997. 354 с.
- Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики . М., 1997. URL: http://www.vixri.com/d/a_filosof/Xajdegger%20M.%20_Kant%20i%20problema%20metafiziki.pdf (дата обращения: 10.06.2015).
- Ренувье Ш. Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 3. М., 2010. С. 443.
- Брюшинкин В.Н. О логических ошибках в кантовской таблице суждений//Кантовский сборник. Калининград, 2008. № 2 (28). С. 7-22.
- Гегель. Сочинения Т. 4, ч. 1: Система наук: ч. 1. Феноменология духа. М.; Л., 1959. XLVIII, 438 с.
- Гранье Ж. Ницше. М., 2005. 159 с.
- Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1996. 846 с.
- Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994. 602 с.
- Гуревич П.С. Философия человека. Ч. 2. М., 2001. 206 с.
- Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994. 694 с.
- Kurth F. Using Bion's Grid as a Laboratory Instrument: A Demonstration//Do I Dare Disturb the Universe/ed.: J.S. Grotstein. Karnak (Book) Ltd., 1983. P. 115-137.
- Кун Т. Структура научных революций/с ввод. ст. и доп. 1969 г. М., 1977. 300 с.
- Поппер К. За пределами поиска инвариантов//Вопросы истории естествознания и техники. 2003. № 2. С. 674-702.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. 406 с.
- Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. 478 с.
- Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 2001. 510 с.
- Ролан Барт о Ролане Барте. М., 2002. 288 с.
- Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 2008. 702 с.
- Лосев А.Ф. Вл. Соловьев. М., 1983. 206 с.
- Щедровицкий П.Г. С чем войдем в XXI век: стеногр. одноим. докл.//Народное образование. 1992. № 5/6. С. 68-73.
- Ильенков Э.В. Пройдена ли таблица умножения?//Ильенков Э.В. Искусство и коммунистический идеал: избр. ст. по философии и эстетике. М., 1984. С. 206-212.
- Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М., 1978. 272 с.
- Барлыбаев Х.А. Периодическая таблица системы «природа -человек -общество»//Философия и общество. 2009. № 2. С. 58-65.
- Антология мировой философии: в 4 т. Т. 3. М., 1971. 760 с.