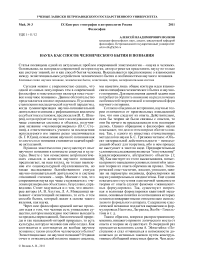Наука как способ человеческого бытия и познания
Автор: Волков Алексей Владимирович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (116), 2011 года.
Бесплатный доступ
Научное познание, человеческое бытие, экзистенция, теория, экспериментальная система
Короткий адрес: https://sciup.org/14749898
IDR: 14749898
Текст статьи Наука как способ человеческого бытия и познания
Сегодня можно с уверенностью сказать, что одной из самых популярных тем в современной философии и эпистемологии является тема «человек и научное познание». Данное обстоятельство представляется вполне оправданным. В условиях становления неклассической научной парадигмы, когда гуманитаризация научно-познавательной деятельности связана с рефлексивным анализом еесубъектных установок, предпосылок (В. С. Швы-рев), когда предметом научного исследования все чаще становятся системы и объекты, получившие название «человекоразмерных» (В. С. Степин), а ответственность ученого за последствия используемого им знания резко увеличивается (Б. Г. Юдин), осмысление научного познания как человеческого познания становится задачей крайне актуальной.
В рамках эпистемологии уже существует опыт научного познания в контексте социума и культуры. Вместе с тем осмысление антропологических смыслов и аспектов научного познания предполагает, на наш взгляд, не только выявление его социокультурной обусловленности, но также исследование бытийственного статуса научно-познавательной деятельности в системе отношений «человек - мир». Мнение о том, что современная наука все чаще сталкивается с «человекоразмерными объектами», безусловно, справедливо. Стоит задуматься и о том, что некоторые авторы (А. В. Ахутин, Л. А. Микешина) называют «экзистенцией познания», то есть о том способе бытия, который лежит в основе такого явления, как наука.
Через всю философию красной нитью проходит идея о том, что человек есть уникальное существо, которое вынуждено постоянно выходить за пределы первозданной, биологической природы и так называемой «второй природы», то есть культуры, которую человек сам себе создал. Как соотносится и соотносится ли вообще научное познание с таким способом человеческого бытия? Экзистенциально ли научное познание? Отдавая отчет в относительной полноте нашего анализа, мы наметим лишь общие контуры идеи взаимосвязи специфики человеческого бытия и научного познания. Для выполнения данной задачи нам потребуется обратить внимание на ряд ключевых особенностей теоретической и эмпирической форм научного познания.
Согласно обыденным воззрениям, научные теории отличаются от произвольных измышлений тем, что они следуют из опыта. Действительно, если бы теории не были связаны с опытом, то они бы ничего не предсказывали и не подтверждались. Однако обращение к философии науки показывает, что дело в этом вопросе обстоит сложнее. Так, у одного из известных отечественных методологов науки Б. С. Грязнова читаем: «Объект материальной действительности - неподходящий объект для теоретика, ибо в нем процесс не выступает в чистом виде. Предварительным условием исследования является “изготовление” идеализированного, абстрактного объекта» [1; 38]. Как явствует из этого высказывания, попытка прямого выведения основных понятий и законов теории из опыта обречена на провал. Эмпирический опыт частичен, локален, уникален, завязан на параметры индивида, формулировки же науки универсальны и аподиктичны. Еще одним показателем отсутствия однозначной зависимости теории от опыта служит феномен «эквивалентных формулировок». Так, существуют матричная и волновая формулировки квантовой механики, основные понятия и соотношения которых остаются инвариантными относительно используемого формального аппарата. Содержание классической механики поддается выражению в формулировках Ньютона, Лагранжа, Якоби - Гамильтона и т. д.
Таким образом, вопреки распространенному мнению, никакого прямого логического моста от опыта к теории не существует. В очередной раз приходится вспомнить слова А. Эйнштейна: «Постепенно я стал отчаиваться в возможности докопаться до истинных законов путем конструктивных обобщений известных фактов. Чем доль- ше и отчаяннее я старался, тем больше приходил к заключению, что только открытие общего формального принципа может привести к надежным результатам» [3; 277]. Сказанное, можно догадаться, наводит на мысль о том, что наука развивается не путем индуктивных выводов из наблюдений, но путем выдвижения гипотез, из которых затем по правилам логического вывода выводятся следствия, а они, в свою очередь, сопоставляются с опытно-экспериментальными данными, то есть фактами. Однако и здесь мы сталкиваемся с интересным обстоятельством. Дело в том, что для того чтобы факты могли вообще что-либо говорить о теории («за» или «против»), они должны быть еще интерпретированы, и в зависимости от этой интерпретации одни и те же экспериментальные данные, факты могут свидетельствовать в поддержку разных теорий. Более того, процесс проверки теории экспериментальными данными осложняется еще и тем, что сама проверяемая теория тоже вовлечена в интерпретацию этих экспериментальных данных и таким образом как бы участвует «в вынесении собственного приговора». Это обстоятельство в философии и методологии науки получило название «теоретической нагруженности фактов». Таким образом, опыт однозначно не гарантирует истинности научных теорий. Уместно в этой связи вспомнить мысль А. Эддингтона: «Мы в состоянии показать, что при помощи некоторой определенной структуры возможно объяснить все явления, но мы не можем доказать, что такая структура будет единственной» [2; 197].
Итак, какой вывод напрашивается из сказанного? Сам факт, что научные теории не выводятся из опыта и не оправдываются им всецело, косвенно указывает на то, что у человека нет какого-то определенного места в мироздании. Во всяком случае, ни эмпирическая, чувственно воспринимаемая действительность, ни теоретическая, умопостигаемая таковым не являются. По-видимому, занятие наукой, которое, как мы знаем, нацелено на решение определенных проблем, предполагает и некую фундаментальную проблематичность положения человека в мире -проблематичность, заключающуюся в безместно-сти такого существа, как человек. При этом особое внимание обращает на себя характер этой проблематичности. Обычно мы полагаем, что наука - это средство для решения проблем, а проблема - это то, что решается конечным количеством шагов. Однако проблематичность, заключающаяся в без-местности человека, впервые только и делает науку возможной и в этой связи является неснимаемой. В самом деле, если представить, что человеку удалось бы вывести свои теории напрямую из наблюдения окружающего мира, то это бы говорило о том, что человек и мир - одно целое. Но в такой связи с миром может находиться, пожалуй, только животное.
В то же время, если бы человеку удалось путем чисто духовных, интеллектуальных усилий сконструировать теорию, которая бы описывала и объясняла устройство мироздания раз и навсегда и одним-единственным образом, то это бы свидетельствовало о том, что человек - не кто иной, как творец этого мира. Но в таком отношении к миру может находиться только высшее сущее - Бог. Отсюда получается, что наука не нужна ни тому сущему, которое растворено в мире (животное), ни тому, которое само творит мир и заключает его в себе (Бог). Наука нужна только такому по-граничному существу, как человек, которое мира не имеет. В этой связи можно сказать, что наука - это способ, попытка человека быть в мире.
Обратим теперь внимание на особенности экспериментальной деятельности. Ряд современных исследований лабораторной науки демонстрирует тот факт, что базовыми, фундаментальными единицами лабораторной деятельности являются так называемые «экспериментальные системы», для которых характерна тесная и неразрывная связь между субъектом и объектом исследования [3], [4]. В 1964 году американскими учеными М. Гелл-Манном и Дж. Цвейгом была высказана идея о том, что тяжелые, сильновзаимодейству-ющие частицы, известные как адроны, являются в действительности не элементарными, а сложными сущностями, состоящими из комбинации так называемых кварков. Многие экспериментаторы сконцентрировали свои усилия на поиске этих новых объектов, электрический заряд которых должен был быть равен 1/3 или 2/3 e . В 1966 году лаборатория, возглавляемая Дж. Морпурго, обнаружила присутствие кварков на частицах графита. В течение нескольких дней исследовательская группа была охвачена волнением. Однако, после того как в экспериментальное оборудование были внесены некоторые изменения, в частности, было увеличено расстояние между плитами конденсатора, количественные значения измеряемых зарядов изменились и перестали свидетельствовать об изоляции кварков.
Как явствует из приведенного примера, функционирование экспериментальной системы ставит перед исследователем проблему учета факторов, препятствующих выделению искомого «сигнала» из постороннего «шума», фона. Если все подобные факторы выявлены, то система становится полностью понятной исследователю и приобретает закрытый характер. Однако чаще всего, и именно об этом свидетельствует реальная практика, некоторые факторы остаются неучтенными и поэтому экспериментальная система нуждается в дальнейшем понимании и носит открытый характер.
Открытость - это не единственное свойство экспериментальных систем. Другим таким свойством является аспектуальность. Обратимся вновь к истории науки. В начале 60-х годов XX века в ряде физических лабораторий была введена новая экспериментальная техника изучения элементарных частиц – электронные детекторы. В отличие от традиционных пузырьковых камер, детекторы обладали одним неоспоримым преимуществом. Будучи построенными на основе теоретического представления о том, что подлинные нейтринные взаимодействия должны представлять собой «заряженные токи», приводящие к появлению мюонов, электронные детекторы способствовали выделению более «чистых» сигналов, то есть регистрировали только те ядерные превращения, в которых действительно производился хотя бы один мюон. Вместе с тем новые детекторы, как выяснилось впоследствии, полностью исключили для экспериментаторов возможность фиксировать так называемые «нейтральные токи», особенностью которых было отсутствие появления мюонов. Как видим, история науки не только иллюстрирует то обстоятельство, что без определенного набора экспериментальных техник ряд научных фактов никогда не стал бы известен, но и возвращает к мысли о том, что любая экспериментальная система дает картину изучаемой реальности селективно, то есть избирательно. При этом видение в одном аспекте может затруднять или вообще исключать видение в другом.
Еще одним свойством экспериментальных систем является локальность. Для того чтобы увидеть эту локальность, необходимо принять во внимание следующее обстоятельство. Природа как объект научного исследования не просто раскрывается сообразно внутренне присущей ей упорядоченности, но расчленяется согласно экспериментальной культуре ученого. Вернемся к истории с кварками.
В 1977 году американский ученый У. Фэйр-бэнк предоставил убедительные, с его точки зрения, доказательства в пользу получения им в Стэндфордской лаборатории свободного кварка. Эти аргументы, однако, были поставлены под сомнение Дж. Морпурго, возглавлявшим лабораторию в Генуе. Оба исследователя были, конечно, согласны в том, что для достижения поставленной цели – обнаружения свободных кварков – необходимо отталкиваться от теории электромагнетизма и проводить экспериментальные измерения электрических зарядов на частицах твердого вещества. И тем не менее сами навыки наблюдения и обращения с оборудованием были у этих ученых разные. Данные особенности и состав- ляют экспериментальную культуру, которая может разниться от одной лаборатории к другой и придавать экспериментальной системе локальный характер, делать ее контекстуально зависимой и ситуационно случайной.
Сказанного достаточно для того, чтобы отметить одно важное обстоятельство. Открытость, аспектуальность, локальность экспериментальных систем делает их образованиями, которые сочетают в себе разнородные элементы: человеческий и не-человеческий, социальный и природный, фактический и артефактический, случайный и необходимый и т. д. Будучи такими гетерогенными образованиями, экспериментальные системы носят как бы «осциллирующий» характер, то есть указанные в них элементы в процессе развития научного познания варьируются, поэтому субъект научного познания оказывается перед лицом необходимости переопределять не только картину сконструированной им реальности, но и то место, которое он отвел в этой картине себе. Специфика экспериментальных систем как бы вынуждает субъекта познания вновь и вновь задаваться вопросом о том, где, собственно, он пребывает – на территории мира или на территории своих представлений о мире. Видимо, открытый, аспектуальный, локальный характер экспериментальных систем наиболее точно отвечает специфике самого субъекта познания – человека – существа, для которого место в мире заранее не уготовано, существа принципиально незавершенного, истиной не обладающего, но ищущего ее.
Тезис о том, что наука представляет собой теоретически организованное и эмпирически обоснованное знание, безусловно, справедлив. Справедливо, однако, и то, что ученый, который занимается построением и проверкой научных теорий, экспериментированием, – человек, существо пограничное, не принадлежащее всецело ни миру природы, ни миру культуры и общества. Здесь, на наш взгляд, и обнаруживается та парадоксальная основа научного познания, которая заключается как в принятии ученым на себя неких ограничений, воплощенных в требованиях эмпирии, теоретических интерпретаций и т. д., так и в преодолении, снятии этих ограничений в виде тех или иных научных открытий. В этой связи релевантная научному познанию форма субъективности должна включать, как нам кажется, понимание человека как существа постоянно рефлексирующего, снимающего в экстатическом порыве наличные пределы, конечные определения мысли.
Список литературы Наука как способ человеческого бытия и познания
- Грязнов Б. С. Логика, рациональность, творчество. М.: Наука, 1982. 256 с.
- Эддингтон А. С. Теория относительности. М.: КомКнига, 2007. 507 с.
- Эйнштейн А. Собрание научных трудов: В 4 т. М.: Наука, 1967. Т. 4. 600 с.
- Pickering A. The Hunting of the Quark//Isis. 1981. Vol. 72. P. 216-236.
- Rheinberger H.-J. Towards History of Epistemic Things: Synthesizing Proteins in the Test Tube. Stanford: Stanford University Press, 1997. 340 p.