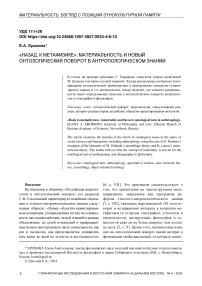"Назад, к метафизике": материальность и новый онтологический поворот в антропологическом знании
Автор: Ерохина Е.А.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Материальность: взгляд с позиций этнокультурной памяти
Статья в выпуске: 4 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье на примере рецепции Г. Харманом элементов теории ассабляжей М. Деланда и акторно-сетевой теории Б. Латура рассмотрены особенности возвращения онтологической проблематики в пространство социально-гуманитарного знания, в т.ч. антропологии. Автор полагает, что концепт материальности имеет определяющее значение в онтологическом повороте антропологии и этнографии к философии.
Онтологический поворот, антропология, спекулятивный реализм, акторно-сетевая теория, ассамбляж, объектно-ориентированная онтология
Короткий адрес: https://sciup.org/170207888
IDR: 170207888 | УДК: 111+39 | DOI: 10.24866/1997-2857/2024-4/6-10
Текст научной статьи "Назад, к метафизике": материальность и новый онтологический поворот в антропологическом знании
Во введении к сборнику «Российская антропология и онтологический поворот» его редактор С.В. Соколовский характеризует новейшие тенденции в этнолого-антропологическом знании следующим образом: «Новые объектно-ориентированные концепции, утверждающие взгляд на социальность как взаимодействие людей и вещей в рамках объемлющих их сетей отношений и превращающие вещи в неотъемлемую часть социальности, как раз и пытаются, как представляется, возвратить нам вещи во всей их полноте и автономности»
[6, с. VII]. Это признание свидетельствует о том, что ориентация на деконструкцию метанарративов, заявленная как программа реформы этнолого-антропологического знания [7, с. 502], оказалась маргинальной. Об этом говорит и возвращение интереса к вопросам метафизики со стороны этнографов, этнологов и антропологов, цитирующих философов и социологов едва ли не более широко, чем коллег по цеху [3, с. 9]. Кроме того, значительное влияние на онтологический поворот оказал интерес к физическим свойствам вещей, от которых социо- гуманитарное знание долгое время отворачивалось, отдавая их на откуп естественным наукам. Имело значение и преодоление дихотомии между символическим и прагматическим, обусловленной делением культуры на материальный и духовный компоненты, где первый выступал лишь субстратом.
Помимо этого, стоит отметить, что вопрос о степени субъективного («искажающего») воздействия ученого на объект исследования в постнеклассической науке был решен в форме отказа от классической модели рациональности во второй половине XX в. Теоретическим постулатом постнеклассической рациональности стало представление о человеческом сознании, мышлении и воображении как о конституирующих реальность окружающего мира феноменах. Особенно справедливым такое видение считалось в отношении включенных в мир культуры вещей. Следствием такого подхода стало изменение дисциплинарных стратегий науки: смещение фокуса с предмета дисциплины с четкими границами на отсутствие границ, переключение интереса с объекта на метод его изучения, внимание к эпистемологии вместо онтологии.
Однако на рубеже 1990-х и 2000-х гг. появляется ряд теорий, прямо или косвенно обозначающих интерес к метафизике, в их числе - т.н. спекулятивный реализм Квентина Мэйясу, Грэма Хармана, Рея Брасье и Йена Гамильтона Гранта. Поводом для возникновения интереса к этому направлению метафизики со стороны этнографов стала их вовлеченность в дискуссию по поводу применимости методов акторно-сетевой теории (АСТ) Бруно Латура в этнологии. Именно в рамках акторно-сетевой теории была предложена новая модель объективации социальных отношений, объединяющих мир людей и мир вещей (заметим в скобках - и мир животных) в некую целостность, в пределах которой статусы субъекта и объекта, человека, животного и вещи уравнены в правах. «Мир материальных объектов становится самодостаточным и нейтральным по отношению к человеку. Ему не требуется опора в мире социальных значений. Уже не человек придает смысл вещи, а вещь определяет ценность человека» [1, с. 16].
Преодоление радикального скептицизма потребовало выхода социологии за собственные пределы в попытке создать мета-социологию, где человеческое существо становится лишь одним из элементов коммуникативной системы. В модели Латура нечеловеческие акторы - животные и вещи - вступают во взаимодействие на равных с людьми и человеческими коллективами, создавая то, что Латур называет сетями [4, с. 93]. Ключевой эпистемологический конфликт между физической природой вещей и тел с одной стороны и их символическим, социальным по природе содержанием с другой теряет смысл. Значение имеют лишь точки сборки, или узлы взаимодействия. Все, что существует, может оказаться актором, участвующим в процессе конструирования сети или ее разрушении [5, с. 167].
Однако важной проблемой этой методологии оставалась сиюминутность и ситуативность контекста взаимодействия, из которой вытекала скрытая идея о том, что вещи существуют только здесь и сейчас. Кроме того, предложенное Латуром решение подталкивало к выводу о том, что ничто не может существовать без наблюдателя, без человека, который приходит и собирает «нечто», которое начинает существовать. Еще одно уязвимое для критики место - это идея о том, что все объекты находятся на одном уровне: химикаты, армии, корпорации, идеи [9, с. 55].
Теория ассамбляжей М. Деланда
Альтернативную АСТ концепцию предложил американский философ континенталистского направления Мануэль Деланда. В ней общими с теорией Латура являются положения, согласно которым объект понимается как то, что: 1) подвержено изменениям; 2) поддерживает множество представлений о себе; 3) остается идентичным самому себе; 4) соприсутствие человека в качестве посредника во взаимодействии объектов не является обязательным. Наконец, объединяющим с АСТ моментом можно считать возвращение вещи в центр философии [8, с. 4].
Деланда не предлагает никаких доказательств реализма, считая, что бремя доказательства лежит на идеалистах (корреляционистах), которые сводят «греющее нас солнце и поражающую нас болезнь» к явлениям сознания. Для обоснования своего реализма Деланда вводит концепт ассам-бляжа, выступая против различия между природным и социальным. Он показывает, что сложные объекты, в функционирование которых вовлечен человек, имеют схожую онтологию с природными объектами, которые функционируют независимо от человеческого участия. В принятии этого равенства природного и социального состоит одно из измерений «плоской» онтологии Деланда. В то же время он уточняет, что его реализм отличается от реализма, согласно которому мир окружающих нас материальных объектов существует независимо от человеческого сознания. Реальность сложных объектов (как социальных, так и природных) состоит в их независимости от тех концептуальных рамок, посредством которых мы пытаемся их осознать. В качестве аргумента к этому тезису он приводит следующий довод. Хотя общество находится в некоторой «зависимости от ума» людей, его составляющих, социальные структуры все же обладают реальностью, которая не зависит от представления ума о них. В этом смысле структуры обладают принуждающей для индивида силой, независимо от того, понимает ли он характер их влияния или нет, признает или отвергает их существование, их влияние на него [2, с. 7–8].
Наиболее спорным элементом его теории остается идея экстериорности, предполагающей определенную автономию частей по отношению к целому таким образом, что компонент ассамбляжа (агрегат) может быть изъят из системы и перемещен в другой ассамбляж. Сам процесс такого перемещения не обязательно предполагает смены идентичности [8, с. 11]. Но всегда ли и в отношении всех ли элементов это возможно?
Чтобы понять природу соотношения части и целого в метафизике спекулятивного реализма, необходимо детальнее разобраться в онтологическом строении агрегата, или компонента, ассам-бляжа. Сущности, объединяющиеся в ассам-бляжи, представляют собой динамичные объекты, свойства которых могут изменяться в результате реализации ими их способностей к взаимодействию с другими динамичными объектами. Свойства целого (ассамбляжа), в состав которого входят эти динамичные сущности, действительно не сводятся к совокупности свойств его компонентов, однако они могут возникать в результате проявления их способностей к взаимодействию.
Объектно-ориентированная онтологияГ. Хармана
Грэм Харман, который осуществляет интеграцию ассамбляжа М. Деланда в свою объектноориентированную онтологию, в качестве примера реальных ассамбляжей приводит разносущностные феномены, обладающие общим свойством системности – Лондон или Каир, Опус Деи, паучья паутина, Мальтийский орден. Раскрывая отличие реального ассамбляжа от нереального, он обращает внимание на: 1) его способность задним числом влиять на собственные части, вводить свои элементы в новые ситуации и отношения (Опус
Деи способен на отравления, на которые в одиночку бы не решились его члены); 2) избыточность (ни один член Опус Деи не является незаменимым, однако структура ордена воспроизводится постоянно) [8, с. 10].
Деланда допускает бесконечное число уровней, бесконечный прогресс и регресс разномасштабных ассамбляжей. Органические и неорганические объекты движутся из ассамбляжа в ассам-бляж, иногда ничуть не меняясь. Автомобильные детали легко переставляются с машины на машину, футболисты переходят из одного клуба в другой. Вещи вовлечены в обратные связи, а не сплавлены в единое целое. Ассамбляжи находятся в непрерывном процессе (само)переопределения: в них происходит перманентная работа по их гомогенизации или, наоборот, размыванию их идентичности. Оба процесса протекают одновременно, причем каждый компонент ассамбляжа, проявляя разные наборы своих способностей, может участвовать в этих разнонаправленных процессах [10].
Такая перспектива преодолевает «организми-ческое» понимание соотношения части и целого, в котором части или компоненты осмысливаются как органы, неспособные существовать вне целого. В рамках такой онтологической модели части связаны друг с другом отношениями интери-орности, где целое напрямую зависит от составных элементов, а изменение внутри элементов или их комбинации повлечет изменение характери-стик/поведения целого. Именно целое определяет идентичность своих частей, и мы не можем помыслить успешное функционирование организма, если из игры выбывает определенный орган или его заменяют другим.
В попытке преодолеть такой органицизм Деланда предлагает идею автономности частей (агрегатов) по отношению к целому, их способность к переопределению в пределах структуры и за ее пределами. В эту перспективу устремляются и спекулятивные реалисты. В ней все вещи приобретают статус объектов – как материальные, так и нематериальные. Объекты способны вступать во взаимодействие без посредника – как без помощи человека воображающего, наблюдающего, конституирующего реальность, так и без посредства субстанции, что бы под этим ни понималось.
В ряду концепций метафизического реализма наибольший интерес вызывает идея объектноориентированной онтологии Г. Хармана, т.к. она успешно справляется с критикой двух устоявшихся философских направлений – классического и постнеклассического. Постнеклассическая модель рациональности оказалась тесно связанной с корреляционизмом, утверждающим, что вещи не имеют значения, если они лежат за пределами корреляции бытия и мышления (вплоть до отрицания их существования). Тем самым, «радикальная философия» от И. Канта до М. Хайдеггера и Л. Витгенштейна отрицает существование мира вещей самих по себе (без человека). Аргумент против нее, предложенный Харманом, заключается в том, что вещи могут существовать независимо от воспринимающего – даже если отсутствует тот, кто различает их как целостность.
Вместе с тем объектно-ориентированная онтология преодолевает субстанциализм классической рациональности, постулировавший идею о том, что многообразие мира вещей есть лишь некая «пена», верхний слой базовой реальности, который не обладает самостоятельным бытием: якобы за ним скрывается некое единство, будь то субстанция, космос или дух. Харман отрицает наличие субстанционального посредника, побуждающего объекты к взаимодействию, обнаруживая способность вещей вступать во взаимодействие друг с другом.
Заключение
Эта реабилитация вещного мира вводит нас в эпистемическую ситуацию, в которой вещь, кажется, впервые выступает не как часть материальной культуры, но как уникальный предмет сама по себе, во всем ее перцептивном своеобразии и эмоциональной наполненности, как субъективная или индивидуальная ценность. Общее, что объединяет спекулятивных реалистов, это признание «плоской» онтологии – идея, что все объекты являются равными. Но прежде всего это означает, что человеческие существа не являются принципиально онтологически отличными от всех не-людей. Г. Харман, К. Мейясу, Р. Брасье и И.Г. Грант выступают против философии, наделяющей человека привилегиями, против признания того, что у человека есть прямой доступ к вещам.
Более того, идея о том, что вещи организуют нашу жизнь, побуждают вступать в коммуникацию, предписывая включаться в ту или иную предметную ситуацию, вести себя определенным образом, в соответствии с контекстом проигрывать определенные социальные роли, усиливает аргумент в пользу предопределенности поведения людей. Материальная среда – костюмы, мебель, сооружения – создает перфор- мативную среду, без которой символическое действие оказывается невозможным. Даже речевые акты оказываются бессмысленными вне соответствующего антуража.
Все это проблематизирует вопрос о месте человека в мире, который осмысливался как персоноцентричный, даже если постнеклассическая эпистемология не была настроена столь решительно. Если человеческие существа онтологически не отличаются от не-человеческих, можем ли мы настаивать на уникальности нашей рациональности в эпистемологическом плане? Если предметная ситуация детерминирует поведение людей, остается ли место свободе человеческой воли?
Список литературы "Назад, к метафизике": материальность и новый онтологический поворот в антропологическом знании
- Артюшина А.В. и др. Форум "Незамеченная революция" // Антропологический форум. 2015. № 24. С. 7-92. EDN: UZNOCZ
- Деланда М. Новая философия общества: теория ассамбляжей и социальная сложность. Пермь: Гиле Пресс, 2018.
- Мартынов В.А. "Культуральные войны": теоретические проблемы истории "поворота" в науках о культуре (статья первая) // Общество. Среда. Развитие. 2021. № 4. С. 8-17. EDN: NKQQZF
- Латур Б. Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию. М.: ВШЭ, 2014.
- Писарев А. Картографируя новую материальность: навигационные установки и картины мира // Логос. 2022. Т. 32. № 6. С. 159-182. EDN: GRFFBO
- Соколовский С.В. От редактора. Онтологический поворот // Российская антропология и онтологический поворот. М.: ИАЭ РАН, 2017. С. VI-VII. EDN: XHITGB
- Тишков В.А. Да изменится молитва моя: 30 лет спустя // Сборник материалов XIII Конгресса антропологов и этнологов России. М.; Казань, 2019. С. 498-506.
- Харман Г. Сети и ассамбляжи: возвращение вещей у Латура и Деланда // Логос. 2017. Т. 27. № 3. С. 1-34. EDN: YMICDZ
- Харман Г., Пиньо Т. Интервью с Грэмом Харманом // Философия науки и техники. 2020. Т. 25. № 2. С. 51-62.
- DeLanda, M., 2016. Assemblage theory. Speculative realism. Edinburgh: Edinburgh University Press.