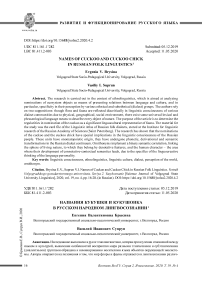Названия кукушки и кукушонка в русском народном лингвосознании
Автор: Брысина Евгения Валентиновна, Супрун Василий Иванович
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 4 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
Исследование выполнено в русле этнолингвистики, которая при изучении отношений между языком и культурой, выявлении особенностей восприятия мира разными этническими и субэтническими (диалектными) группами обращена к номинированию носителями языка объектов окружающей экосистемы. Авторы опираются на положения о том, что мир флоры и фауны отражается в лингвосознании различных диалектных сообществ дифференцированно, в зависимости от физико-географических и социальных условий мест проживания человека, и что существуют универсальные лексико-семантические и фразеологические средства языка, относящиеся к тому или иному объекту природы. Цель данной статьи состоит в определении специфики номинативных процессов, связанных с называнием значимого в лингвокультурном плане представителя фауны - кукушки. Материалом для анализа послужила картотека Лингвистического атласа русских народных говоров, хранящаяся в Институте лингвистических исследования РАН (Санкт-Петербург). Исследование показало, что наименования кукушки и кукушонка занимают особое место в лингвосознании русского народа. Эти единицы имеют ономатопоэтическое происхождение, они претерпели в русском диалектном континууме фонетические, деривационные и семантические преобразования. Орнитонимы реализуют бинарную семантическую корреляцию, связывая сферу живой природы, к которой они принадлежат по денотативным признакам, и сферу человеческого характера - область, куда приводит развитие их коннотативно-контекстуальной семантики, обусловленное спецификой лингвокреативного мышления языковой личности.
Лингвосознание, этнолингвистика, лингвокультура, диалект, мировосприятие, орнитоним
Короткий адрес: https://sciup.org/149131578
IDR: 149131578 | УДК: 811.161.1’282 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2020.4.2
Текст научной статьи Названия кукушки и кукушонка в русском народном лингвосознании
DOI:
Исследование посвящено актуальной для современной этнолингвистики проблеме выявления содержания и формирования лингвосоз-нания носителя народной речи. Цель данной работы – на обширном языковом материале показать особенности восприятия носителем русского языка кукушки как одного из ставших частью традиционной русской культуры объектов окружающей действительности.
Языковая личность обобщает в словах, словосочетаниях, предложениях и текстах свое восприятие мира и отношение к нему. Большое значение в жизни человека играет мир фауны. Наблюдения за поведением животных, особенностями их жизни, знания об утилитарной полезности и эстетическом восприятии внешнего облика объекта вербализуются в языке, и особенно в диалекте, многочисленными единицами, часто становясь основой для фольклорных произведений. В статье в этнолингвистическом аспекте рассматриваются языковые единицы, номинирующие кукушку и ее птенца.
Материал и методы исследования
Материалом исследования послужила картотека Лингвистического атласа русских народных говоров (далее – ЛАРНГ), хранящаяся в Институте лингвистических исследования РАН (Санкт-Петербург).
Сетку обследования атласа составляют около 1 070 пунктов на территории европейской части России. Программа атласа включает более 5 тысяч вопросов по макротемам «Природа», «Человек», «Растительный мир», «Материальная культура». В рамках темы «Природа» проводился сбор материала о номинациях животных в русском диалектном континууме, включая названия птиц. Две карты готовящегося к изданию тома ЛАРНГ, составление которых поручено авторам настоящей статьи, посвящены названиям кукушки и кукушонка. При обработке материала были использованы диалектные, этимологические, толковые словари русского языка и фольклорные тексты.
При разработке проблемы и реализации цели исследования применялись такие общенаучные методы, как обобщение, абстрагирование, формализация, анализ, синтез; основным лингвистическим методом стал дескриптивный, позволивший выявить исследуемые единицы языка и системные отношения, в которые они вступают. Изучались качественные свойства диалектных названий кукушки, определена количественная представленность лексем в народной речи. Историко-сравнительный метод использовался для определения диахронических преобразований орнитонимов, элементы сопоставительного метода – при выявлении ономатопоэтической природы названий кукушки в разных языках.
Результаты и обсуждение
В лингвогенезе разных этносов кукушка отразилась яркой ономатопоэтической номинацией. В самых отдаленных по родству и даже в неродственных языках (если не учитывать моноцентрическую теорию глоттоге-неза) кукушку именуют словами, указывающими на ее крик: рус. кукушка , болг. кукуви-ца , серб. кукавица , чеш., словац. kukačka , польск. kukułka , хорв., словен. kukavica , нем., люксем. Кuckuck , англ. cuckoo , нидерл., африкаанс koekoek , дат. gøg , норв. gjøk , швед. gök , gökur , идиш [куку], фр. coucou , исп.
cuclillo , ит. cuculo , порт., галисийск. cuco , рум. cuc , каталан. cucut , греч. κούκος , алб. eqyqes , валлийск. gog , венг. kakukk , фин. käki , эстон. kägu , удмурт. кикы , горно-мар. куку , груз.
[гугули], баск. kuku, турец. guguklu, башк. , татар. , , узбек. qo′qon, иврит [коко], вьет. cúccu, бенг. [ко-кил], маратхи [кокила], гуджарати
[коал], тамильск. [коел], телугу
[кокле], кит. [гугу], тагальск. kuku, япон. [каккоу] и др. Это звукоподра жание используется и в научном латинском термине Cuculus. Вероятно, нет в мире другого ономатопоэтического слова, столь совпадающего в обозначении какого-либо предмета или явления.
Менее яркую ономатопоэтическую традицию именования кукушки, также основанную на звукоподражательном эффекте, отражают рус. зегзица , укр. зозуля , белор. зязюля , чеш. žežhule, словац. žežhulica , польск. gżegżółka , латыш. dzeguze , лит. gegutė , др.-прус. geguse , которые восходят к звукоподражательному корню *- geg- с не до конца понятными фонетическими преобразованиями. М. Фасмер обнаруживает здесь дистантные ассимиляции (Фас-мер, т. 2, с. 91–92). Л.А. Булаховский пишет: «Серьезные трудности представляет объяснение внешней формы слова» [Булаховский, 1948, с. 108]. Отметим, что в обоих случаях в инициальной позиции этимологического корня находятся заднеязычные звуки, которые, по наблюдениям Е.В. Тишиной, обладают звукоизобразительным признаком, «реализуя фоноизображение гортанного, резкого, громкого звука» [Тишина, 2010, с. 6], что, вероятно, отразило восприятие крика кукушки славянами и балтами.
Разнообразное фонетическое и деривационное оформление звукоподражательных номинаций кукушки обнаруживается в русских народных говорах. С точки зрения вокалического оформления корня лексемы распределяются на две группы: кок - и кук -. С корнем кок - зафиксировано 7 слов: коковка , ко-кука , кокуля , кокуша , кокушка , кокушечка и кокушица . Корень кук - отмечен в 20 дериватах, хотя, возможно, некоторые из них с единичным пунктом распространения могут отражать нечеткость или ошибочность записи: кукикша , кукованя , куковка , куковятина , ку-кувница , кукукалка , кукулка , кукуля , кукунья , кукуня , кукуха , кукуша , кукушечка , кукуши-ха , кукушица , кукушка , кукша , куникша , кушка , кушкушка . Во втором слоге [о] обнаруживается всего в четырех случаях: коков-ка , кокованя , куковка и коковятина . В остальных номинациях представлен звук [у], за исключением не очень ясной кукикши ( куник-ши ) и таких же загадочных кукши и кушки в единичных употреблениях. В большинстве обследованных районов европейской части России используется лексема кукушка (74 % от 848 случаев употреблений названия с корнем кук - / кок -), 9 % приходится на кукушу , 8 % – на кокушку , по 2 % составили куку-шица и кукуля , 1 % – коковка , по 0,5 % – куковка , кукуня , кукуха , 3,5 % распределились среди остальных 18 наименований. Носители русской лингвокультуры понимают происхождение этого наименования птицы: Кукушкой называют, потому что она кричит ку-ку (270) 2.
Вторая группа наименований, восходящих к этимону *geguza, существенно уступает по количеству районов фиксации, их всего 71. При этом слова можно распределить на две подгруппы: с начальным зоз-/зез-/зуз-/заз-/зяз-(80 % от общего количества) и с зег-/заг-/жег-(19 %), наименование загозуля является контаминированной формой (1 %). Значительная часть единиц первой подгруппы прямо или косвенно отражает украинское или белорусское влияние, они записаны в восточнославянском этническом пограничье или в местах обитания носителей говоров с украинской языковой основой (Кубань, Старополье): зазуля, зозуля, зозулька, зозюля, зозуря, зезюля, зязуля, зузу-ля, зузюля. Г.М. Левина отмечает, что в Псков- ской и Смоленской областях на границе с Беларусью были зафиксированы названия кукушки зазуля, зазюля, зезуля, зезюля, зозуля, зу-зуля, зюзюля, зезюлик [Левина, 1975, с. 72]. Во второй подгруппе 4 названия образуют словообразовательное гнездо (загоза, загоска, за-гостка, загошка), особняком стоят жегож-ка и зегзица. Она обнаружила еще несколько наименований этого типа: загозочка (Смоленская область), загозка (река Свирь), загонька (Псковская и Новгородская области), загож-ка, загоженька (Олонец), загошица, зогза (Вологодская область) [Левина, 1975, с. 72]. У поэта Н.А. Клюева, уроженца Олонецкой губернии, есть строки: Белая берёзонька / Клонится к дождю... / Не кукуй, загозынька, / Про судьбу мою... (Клюев). Жегожка, отмеченная в Кирсановском районе Тамбовской области, весьма напоминает западнославянские диалектные наименования кукушки. В СРНГ отмечается, что это слово известно также в Олонецкой губернии.
О зегзице существуют обширная литература, прежде всего связанная с толкованием двух мест в «Слове о полку Игореве». Как свидетельствуют данные картотеки ЛАРНГ, этот орнитоним встречается на севере – в Сун-ском районе Кировской области и Суксунском районе Пермской области. Первоначально, с убедительными примерами из исторических документов («Палея» XIV в., «Мерило Праведное» XIV в., «Задонщина» конца XIV – начала XV в., «Вопросы святого Сильвестра и ответы преподобного Антония» XVI в.), это слово было истолковано как ‘кукушка’. Удаленные от нас на шесть-семь веков тексты содержат такое же гневное осуждение поведения кукушки, как это обнаруживаются и у современных диалектоносителей: Зогзуля в чюжа гн h зда яиця своя мечеть (Мерило Праведное); Есть убо ина птица, нарицаема зе-гула , есть убо птица та злонрава сущи, егда убо народить яица, то ин h хъ птиць [въ гн h зда] яица своя износить изъ гн h зда, сама же своему гн h зду не хранитель есть, но инымъ птицамъ отроды своя прем h таеть (Палея Толковая).
Н.В. Шарлемань, опираясь на контекст, предположил, что «автор “Слова...” сравнил Ярославну с той птицей, которая издавна на Украине была эмблемой печали, то есть с чайкой» [Шарлемань, 1948, с. 115]. Эту интерпретацию поддержал Н.А. Мещерский: «С точки зрения поэтического образа это значение слова зегзица значительно лучше мотивируется, чем общепринятое ранее (кукушка)» [Мещерский, 1995, с. 171].
В поэтических и прозаических переложениях «Слова о полку Игореве» на современный язык отражены разные интерпретации этого слова. В.А. Жуковский знал о том, что у слова зегзица есть значение ‘кукушка’, но почему-то при редактировании заменил его на чечётку : Голос Ярославнин слышится, на заре одинокой чечёткою кличет: «Полечу, – говорит, – чечёткою (зачеркнуто кукушкою . – Е. Б., В. С. ) по Дунаю (Слово Ж., с. 36). Чечетка – это ‘небольшая птица семейства вьюрковых (обитает в тундре и в лесной части Евразии и Америки’ (БТС, с. 1479).
Д.С. Лихачев придерживается версии о кукушке: На Дунае Ярославнин голос слышится, кукушкою безвестною рано кукует. «Полечу, – говорит, – кукушкою по Дунаю» (Лихачев, с. 211). Вслед за ним и Н.А. Заболоцкий говорит о кукушке: Плачет, из Путив-ля долетая, / Голос Ярославны молодой: / Обернусь я, бедная, кукушкой (Заболоцкий, с. 23). А.Ю. Чернов предложил новый взгляд на это слово, опираясь на обнаруженное Г.М. Левиной в воронежских говорах слово зегзица ‘иволга’, и дал такой перевод отрывка из плача Ярославны: «По Дунаю поутру иволгою полечу» (Слово Ч., с. 47). Между тем задолго до появления работ Г.М. Левиной, в 1886 г., это слово с тем же значением было отмечено в курских говорах, оно включено в СРНГ (вып. 11, с. 244). Материалы ЛАРНГ показывают, что у этого орнитонима в русских народных говорах имеется также значение ‘кукушка’. В последнем по времени переводе А.А. Бурыкина, ученика Н.А. Мещерского, зегзица определяется как ‘чайка’: На Дунае голос Ярославны слышится, чайкой-зегзи-цей неведомой рано утром голосит [Бурыкин, 2017, с. 306]. В этой же книге дается обзор различных интерпретаций этого орнитони-ма [Бурыкин, 2017, с. 367].
В этой работе и во многих других дается ссылка на «Моление Даниила Заточника», однако И.И. Срезневский неслучайно не включил в свой словарь пример со словом зогзи- ца, так как в изначальном тексте произведения эта лексема отсутствует: Да не възнена-видим буду миру со многою бесhдою, Яко же бо птиця, частяще пhсни своя, скоро възненавидима бываеть (Заруб., с. 73) (см. также: [Соколова, 1993, с. 255]). Она попадает в одну из поздних версий – в так называемую вторую редакцию, существенно отличающуюся от первоначального текста: Упо-доблюся зогзицы, иже едину поетъ песнь, того ради ненавидима бываетъ (Заруб., с. 107). Л.В. Соколова считает, что автор «Моления», основываясь на тексте «Слова», в то же время спорит с ним, пародирует его, высмеивает Даниила и его послание: «Таким образом, “Моление” является вторичным по отношению к “Слову” памятником. Это ответ на “Слово”, анти-“Слово”, пародия на него» [Соколова, 1993, с. 230]. О «скоморошьем балагурстве» автора «Слова» и «Моления» говорил и Д.С. Лихачев [Лихачев, 1987, с. 154– 244]. Возможно, и простонародная зогзица попала в текст в пародийных, балагурных целях. При этом контекст XV в. не может быть однозначно истолкован в пользу значения ‘кукушка’: надоесть своим однообразным пением может любая птица.
У кукушонка номинаций меньше, почти все они образованы от соответствующего названия кукушки с помощью суффикса -онок-/ -ёнок- с вариациями форм множественного числа: по древней модели -ата(ы)/-ята(ы) и с выравниванием парадигмы -онки/-ёнки. Дериваты с заг-/зоз- единичны: загосята, зозулёнок / зозулята, зузуленя (последнее явно украинского происхождения). Особняком стоят образования зобзун и зобун, всего по два употребления, причем на удалении друг от друга: первое в Чердынском районе Пермской области и Кирсановском районе Тамбовской области, второе – в Архангельском районе Башкирии и Дубровском районе Брянской области. Слово зобзун в переносном значении встречается также в беломорской старине «Михайло Игнатьевич (Данилович)», записанной 22 августа 1898 г. в селе Нижняя Зимняя Золотица на берегу Белого моря: Отго-ворит-от князь Владимер таковы речи: / «Ты молодой зобзун, ты рано всё попáрхи-вашь; / Потеряшь ты свою буйну голову по-напрасному» (Беломор., с. 334). Эти сло- ва, вероятно, образованы от глагола зобти ‘есть’ (СРНГ, вып. 11, с. 325).
Остальные номинации образованы от корня кок -/ кук -: от первого варианта всего 22 фиксации ( коковёнок , кокунёнок / кокунён-ки , кокушонок / кокушата / кокушатки ), зато регулярная форма кукушонок / кукушата(ы) / кукушонки зафиксирована 876 раз (одна форма множественного числа – кукушьята ). Другие формы малочисленны: по 9 районов – ку-ковёнок / куковята , куколёнок , кукошонок / кукошонки , 7 районов – кукунёнок / кукуня-та(ы) , 6 районов – кукурёнок / кукурята / кукурёнки ; кукушенёнок / кукушенята / ку-кушенятки . Отмечены также единичные употребления куклёнок / кукляты / кукленя-та ; куколёнок , куконёнок / куконята ; куко-шонок / кукошата ; кукуёнок / кукуята , ку-кужата ; кукулёнок / кукулята ; кукунчик , ку-кучонок / кукучата ; кукушатко / кукушата ; кукушеня / кукушата / кукушенята ; куха-рёнок ; кушкушонок / кушкушата ; кушонок / кушата ; кукушоночек ; кукушочек . Формы множественного числа некоторых наименований свидетельствуют о том, что здесь использовались другие формы единственного числа, но были вытеснены в лингвосознании диа-лектоносителей литературной формой: кукушонок / куканята , кукушонок / куковяты , кукушонок / кукушенята , кукушонок , кукуш-нята . Формы множественного числа оказываются более устойчивыми в диалектном линг-восознании.
Диалектоносители отмечают, что кукушка – лесная птица: Кукушка – это птичка лесная (332); Кукушка – такая лесная птица (436); Кукушка – это лесная пташка (467). Орнитолог отмечает: лес – родная стихия кукушки [Мальчевский, 1987, с. 32].
Главная черта в поведении кукушки заключается в том, что эта птица не вьет гнезда: Кокушка – нахальная птица. Не вьёт гнезда, не свивает гнёздышка (59); Птица, которая не вьёт своего гнезда, – кукушка (336); У кокушки нет гнезда (381); Серенькая кукушка, та гнезда не вьёт (801). Поскольку у кукушки нет гнезда, она подкладывает свои яйца в чужие гнезда. Ученые называют такой характер поведения птиц гнездовым паразитизмом [Makatsch, 1949; Molnar, 1944]. Жители сел в разных местах России подмечают эти действия птицы и дают им отрицательную оценку: Кукушки откладывают яйца в чужие гнёзда, те птички кормят их, а свои птенчики погибают, потому что кукушки прожорливы (7); Кукуля откладывает яйца в чужие гнёзда (48); Кокушка – нахальная птица. Не вьёт гнезда, не свивает гнёздышка (59); Кукушка свои яйца в чужие гнёзда подкидывает (94); А они кукушки вредные птицы, кукушат своих бросают (120); Нахалка эта птица (135); Кукушка – нехорошая птица. Яна свои яйца в чужие гнёзда подкладывая (168); Кукушка снесёт своё яичко да не парит (206); Кукушиха – птица хитра, ленится птенчат высиживать, вот и разносит яйца по всем другим гнёздам (207); Плохая мать кукушка (216); Ах, эта кукушка, ведь самая грешная мать (337); Она свои яйца в чужие гнёзды кладёт, а потом летит по лесу и детей своих ищет (383); Кукушка птица-то красива, но плоха (438); Кукушка – плохая птица, детей своих подбрасывает (433); Кукушка – мать непутёва (485); Гадкая птица эта коковка (597); Кукушка – птица проклятая, она детей бросает (898); Так она ещё и хорошие яйца колет (329). Иногда проявляется сочувствие к птице: Какая из кукушки мать, кукушат своих другим птицам подбрасываеть. А что ж, гнезда она не вьеть, где ей кукушат растить (430); Кукушка всё горемыкается. Яиц-то она не выводит, кукушка-то (529); Кукушка закуковала: то ли счастья ищет, то ли кукушонка своего. Кукушка потом кукушонка своего ищет. Летает кукушка, тоскует. Кукушка одна всё время кукует, ищет кого-то. Говорят: кукушка кукует, своего мужа ищет (845а). Для обозначения подбрасывания кукушкой яиц в чужие гнезда используются различные глаголы: кладёт, откладывает, подкладывает, подбрасывает, подкидывает, отложит яйца. В записях народной речи встречается уточнение: Кукушка сама яйца не высиживат. Она их подбрасыват в другие гнёзда махоньких птичек (451); Кукурята в чужом гнезде растут (387).
Появилось народное объяснение причин такого поведения кукушки: Кукушка в Троицу-то яйца снесла и куковала весь день. Бок и наказал её, што ни дома, ни детей у неё нет (51).
В орнитологии птицы, на которых паразитируют кукушки, называются воспитателями. К ним относятся горихвостка-лысушка, белая трясогузка, зарянка (малиновка) и дроздовидная камышевка, выводящие половину кукушат [Мальчевский, 1987, с. 147]. Народ подтверждает эти наблюдения: Кукушка подкладывает яйца дрозду малиновке, выводится кукушонок, кукушата. Малиновка кормит своих и кукушат (681); В гнезде малиновки ай видал кукушонка (438), однако и расширяет список воспитателей: Синица, филин, коршун кормят кукушонка, пока тот не научится летать, а сама кукушка не парит птенцов (51); Ворона высиживает воронят и кукушат (59); В гнёздышке дятлика вылупился кукушонок (187); Мать-кукушка своих птенцов другим птицам отдаёт. Вот и вырастает в семье дятла кукушонок (381); Зобзуна кормит грачиха (598); Кукушка птенцов не выводит, выводят другие. Скобец выводит (984); Воробьи выкормили в своем гнезде кукушонка (384); У галки примач (764); Кукушонок в гнезде у ласточек был (833). Кукушка может подбросить яйца и домашней птице: Бабы баяли, што курица вывела кукушат (18); У гусей кукушонок вывелся (170). Ученые отмечают, что кукушки паразитируют на определенных видах птиц. Например, кукушка часто подбрасывает яйца в гнезда зарянки [Мальчевский, 1987, с. 29, 65].
Повсеместно распространено утверждение, что эта птица предсказывает, сколько лет человеку осталось прожить. Считается необходимым обратиться к кукушке с просьбой посчитать года, эти фразы повторяются почти дословно в разных частях России: Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось (45); Кукуша, кукуша, сколько мне лет жить осталось (84); Кукушица предвещает, сколько нам жить осталось (145); В лесу и спросишь, бывало, кукушку: Сколько лет мне жить осталось (189); Если кукушка закукуе, то начнём щитать, а сами думаем: «Кукуня, ну, ни останавливайся». Толька бы не остановилась (274); Есть у нас поверье, что сколько лет кукушка прокукует, столько лет ты и жить будешь. Кукушка накуковала сто лет (287); Кокушка, ко-кушка, сколько мне жить осталось? (302); Птица кукушка года отщитывает, кому сколько. Кукушка кричит: «Ку-ку», а люди считают (381); Кукуля, сколько лет мне жить? (438); Кукушка, скажи, сколько я лет проживу (950); Кукушки птицы невзрачные, серые, но люди в лесу всегда считают, сколько раз она прокукует, верят в примету (406). Носители русской лингвокультуры понимают, что это игра, поэтому добавляют: Не верю я этим кушкушкам (389); Кукушка – тот ещё пророк, да не верьте ей (337); Кукушка тебе скажет, сколько жить осталось, верить только не стоит (592). Ученые-орнитологи насчитали максимальное количество фонаций кукушки – 360 [Мальчевский, 1987, с. 67].
В народе не отличают кукушку-самку от самца: Кукушка и есть кукушка, хоть самец, хоть самка (34); Самку тоже кокуш-кой называли, не различали, где самец, где самка (156); И жена кукушки тоже кукушка (288); Самочка тоже кукушкой будет (381); Мы самку всё одно кукухой зовем, их ведь не отличишь (401); И самка, и самец – всё равно кукушка (436); Кукушка она и есть кукушка, што самка, што самец (437);
Её так же и зовуть, как ево, – кукушка (950). Однако некоторые жители сел дают отдельные названия самцу и самке и знают, что кукует только самец: Кокуй – самец кукушки. Кокуй кукует (116); Кукует кукуш (18); Говорят, что самка кукушки не кукует (61); Самоцку называм кукушиной (61); Ведь кукушка сама ни кукует, это папа поёт (395); А ишшо её кукушицей зовут у нас, ет когда ана самачка, мать детей своих (437); Самку кукушки звали у нас кукушиха (432); Жена у кукушки кукушиха (527); Кукун – самец кукушки (845а).
Орнитологи подтверждают, что во время токования кукует всегда самец, он подает брачный сигнал, у самки иной голос, не такой звонкий. Голос же самца слышен далеко, в тихую погоду на два километра [Мальчевский 1987, с. 15], что и стало, видимо, одной из причин приметы о подсчете будущих лет жизни: у других птиц нет столь четких, громких и повторяющихся фонаций.
Народ примечает, когда начинается и как долго длится брачный сезон у кукушек: Обычно у нас второго мая прилетает кукушка, да сегодня я не слышал (332); За первой грозой зозуля кукует (730); Кукушка начинает куковать, когда на деревьях первые листья. Кукует да двенадцатого июля, до Пятра (377); Говорят, кокушка кокует только до Петрова дня (295); Кукушки вот сейчас до Петрова дня, а больше петь не будут (386); Кукушка до Петрова дня поёт (395); Куку-ша будет куковать до Петрова дня, а там улетит (845а); Теперь уж кукушка откуко-вала. Пятров день прошёл. Больше не будет куковать (549).
Орнитологи указывают, что активное кукование самцов начинается после прилета самок, которые задерживаются в местах зимовки. В разных регионах России это происходит в разные сроки: на юге можно услышать кукушку даже в конце марта, но в средней полосе обычно брачные игры кукушек начинаются 2–5 мая [Мальчевский, 1987, с. 28]. Заканчивается кукование к середине июля, ко Дню святых апостолов Петра и Павла, который приходится на 12 июля. К этому времени наливается колос у зерновых, поэтому в народе говорят: Когда ячмень на зерно выйдет, уж тогда кукушка попускается, не кукует больше (42); Перестала куковать – подавилась ржаным колосом (61). Последняя поговорка широко распространена в русском диалектном континууме, она отмечена в СРНГ: Кукушка колосом (ячменем) подавилась (давится). О времени созревания ржи, ячменя (когда кукушка перестает куковать) (СРНГ, вып. 16, с. 48) (см. также: [Мальчевский, 1987, с. 21]).
С кукушкой связан ряд народных примет: Кукушка прокуковала – можно купаться (562); Ой, кокушка прилетела, тепло будет (314); Прилетела кукушка на голый лес – к плохому году (61); Ой, кукушка кукует на голый лес – урожай плохой будет (469); Кукушка – птица нехорошая. В окно стучит – к худому (52); А кокушка в деревню прилетит – беда будет (351); Если кукушка на улицу какую прилетела, к пожару это (206); Кукушка кукует – это к пожару (281); Зегзица в лесу кричит, примечай, в какое ухо – худо, как в левое (214); Весной услышишь кукушку первую – к засухе (321); Мороз будэ, колы зозуля на сухом дэрэви кукуе (1026). О народных приметах упоминает орнитолог А.С. Мальчевский: Закуковала кукушка – пора лён сеять ; Ранняя кукушка, до листа – к неурожаю, голоду [Мальчевский, 1987, с. 27].
Внешне кукушка похожа на ястреба-перепелятника. Это стало основой народного предания о том, что, перестав куковать, кукушка превращается в ястреба и таскает цыплят и кур: Кукушка – она подбрасывает яйца, тягает и цыплят (324); Кукушка в деревне таскат маленьких птицьках (529); Кукушка да Пятра кукуя, а патом курей крадёть. После Пятра она зовётся рялок (267). Нам не удалось обнаружить слово ре-лок / рялок в доступных диалектных словарях, но, судя по контексту, оно обозначает какую-то хищную птицу, а с учетом ее сходства с перепелятником можно предположить, что речь идет о нем. В другом контексте отсутствие кукования у кукушки летом объясняется ее превращением в сову: Кукушка ку-куеть, а с пол-лета делается на сову (269).
Народ то ли по наблюдениям, то ли по книгам знает о пищевых предпочтениях кукушки: Кукушки клюют вредных насекомых (539); Кукушка питается различными насе- комыми, поедает много волосатых гусениц, которых обычно не едят другие птицы (134); Кукушки насекомых едят (811).
Диалектоносители обращают внимание на внешний вид и поведение детеныша кукушки. Во многих контекстах выражается сочувствие его сиротской доле, но отмечается и агрессивный характер птенца: Кукушата они нищасные, без матери живут. Чужая птица, может, накормит, а может, и выкинет (383); Кукушат чужая мать выводит, кормит их как родных, воспитывает, обучает летать (467); Кукушонок тот в лесу жил одиноко (342); Кокушонок-то из гнезда всех птенцов выкидывает (38); Кукушонок крупный по сравнению с другими птенцами. Кукушата ну очень прожорливы (48); Кукушонок, если в гнездо какой птичке попадёт, всех птенцов вытолкнет, один останется (62); Кукушаты – они в чужых гнёздах выводются (70); Кукушата у матери не растут, их другие птицы растят, а кто и заклевывает (466); Кукушата вылупляются гадкие, с большой головой, на лапках не стоят (83); Кукушата – самые прожорливые из птенцов (84); Кукушата вредные, своих меньших братьев выталкивают (104); Подросший кукушонок выкидыват из гнезда других птенцов, а их родители продолжают его кормить (134); Кукушонок – некрасивый птенец (189); Кукушата – подкидыши (241); Кукушонок всех птенцов выкинет, а птички его кормят (270); Кукушонок всех из гнезда вышвырнул (296); Кукушонок такой же злой, как мать (344); А ку-кията других птенцов-то не любят, из гнёзд выкидывают (478); Кукавёнак всех других птинцов повыкидавал (745); Так он ещё и хозяйские яйца сосёт (801); Когда выводится кукушонок, всех из гнезда выб-расываеть (845а); Кукушонок выталкивал птенцов из гнезда (954); Кукушатко вы-кыдывае из гнизда иншых птынцив (1027).
Кукушка за свои необычные качества становится популярным героем фольклорных текстов. Л.Ю. Гусев включает ее наименование в число ядерных единиц лексико-семантической группы в текстах былин, причитаний, лирических и исторических песен [Гусев, 1996, с. 9]. Она часто встречается в песнях, которые напевают или пересказывают диа- лектоносители: Не кокушечка кукует, не соловушек поёт (285). Текст этой народной песни имеет варианты: Не кукушечка кукует / Не соловушка поёт. / Рано маменька (Род-на маменка) тоскует: / Сын в солдатики идёт. / Не кукушечка кукует / Не соловушка поёт. / Мать по дочери горюет – / Лодырь свататься идёт. Существует частушка: Не кукуй, кукушечка, в лесе, вылетай в поле (100). Полностью она звучит так: Не кукуй, кукушка, в лесе, / Вылетай в полюшко. / Не тоскуй, моё сердечко, / Не вдавайся в горюшко. В годы коллективизации на ее основе сочинили политическую частушку: Не кукуй, кукушка, в лесе, / Вылетай на полюшко, / Бедняку совет – защита, / А буржуям – горюшко.
Наиболее часто сельские жители вспоминают песню «Соловей кукушечку уговаривал»: Соловей кокушечку уговаривал (402); Есть песня: Соловей кукушку уговаривал (527); Соловей кукушку уговаривал: Полетим, кукушка, в тёмный лесок (529); Выведи, кукушка, двух детёнышей: тебе коко-рёнка, а мне соловья (212); Полетим, кукушка, в тёмненькой лесок. Будет два птенца: тебе кокушонка (393); Выведем, кукушка, два детёныша: тебе куковёнка, а мне соловья (475). Эта протяжная народная песня впервые была зафиксирована еще знаменитым собирателем народных песен, писателем и фольклористом П.В. Киреевским, пять ее вариантов, записанных им в Орловской и Московской губерниях, вошли в издание Общества любителей российской словесности (Киреев., с. 13–16). Песня относится к былевым, историческим песням периода правления Ивана Грозного; она была связана со взятием Казани. Позже появились новые текстовые и мелодические варианты, она была распета казаками, духоборами, различными современными российскими ансамблями. Так, профессор Воронежской академии искусств Г.Я Сысоева записала песню в селе Нижняя Покровка Белгородской области и включила ее в репертуар своего ансамбля «Воля». Со временем песня из исторической превратилась в лирическую, тема взятия Казани, как неактуальная, перестала в ней звучать.
Жители сел помнят некоторые выученные в школе произведения художественной литера- туры, в которых упоминается кукушка, например басню И.А. Крылова: Кукушка хвалит петуха (591), стихотворение С.Я. Маршака: В лесу над росистой полянкой кукушка встречает рассвет (591). В их памяти хранятся народные сказки и простое стихотворение неизвестного автора: Кукушонок закричал, яйца все пораскидал (стих) (325); Правнучку я люблю сказку про кукушку с кукушатами рассказывать (344); И сказка есть про то, как кукушонок у других птиц рос (433).
Многие диалектоносители вспоминают скороговорку, которую тоже, вероятно, слышали в школе: Кукушка кукушонку купила ка-пишон (121); Про кукушонка скороговорка одна есть (137); Кукушка кукушонку сшила капюшон, как в капюшоне он смешон (216); Купила кукушонку кукушка капюшон, кукушонок в капюшоне очень смешон (260); Ишо у нас такая скороговорка про кукушат была, да забыла я её чёй-то (437).
Широко представлены в народной речи слова кукушка и кукушонок в переносных значениях, пока не вошедших в словари русского языка.
Кукушка. 1. Мать, бросившая своих детей или не заботящаяся о них: Да вон у Гальки мать всё кокушкой звали (44); Женщину, какая бросит детей, так называют (260); Иная и девка как кукушка (979); Вот она как кукушка – дети без присмотра (466); Мы плохую мать кукушкой называем (380). 2. Забывчивый человек (чаще о женщине): И куда это я обрядила. Вот кукушка. Беспамятная потому что (70).
Кукушонок . Ребенок, брошенный родителями или матерью: Нет у него родного отца и родной матери – кукушонок (61); Кукушатами детей покинутых зовут (342); Кукушаты – брошенные дети (774); Кукушатами ещё сирот называют. А ведь и у людей кукушата бывают (592).
Слово кукушонок используется в сравнительных оборотах и как ласковое именование ребенка: Смотрю: детки сидять, словно кукушата какие (959); О, какой большеротый, што кукушонок. Прожорливые, как кукушата (277); Пищит, как кукушонок (265); Маленький кукушоночек (о ребенке в капюшоне) (774); Еле нашла своего кукушонка (845а).
Видимо, уже вышел из употребления обряд крещения и похорон кукушки, описанный фольклористами [Бернштам, 1981; Виноградова, 1999; Гура, 2004]. Он был распространен на территории Калужской, Орловской, Тульской, Курской, Брянской, Белгородской областей, но в картотеке ЛАРНГ не зафиксирован.
В различных лингвистических и этнографических источниках используются устойчивые сочетания, содержащие слово кукушка . У В.И. Даля обнаруживается более 40 пословиц и поговорок. Их анализ может стать предметом отдельной статьи.
Выводы
Современная отечественная этнолингвистика изучает отношения между языком и культурой, языком и народом, особенности восприятия мира разными субэтническими (диалектными) группами. Объекты окружающей экосистемы получают в народной речи дифференцированные номинации в зависимости от физико-географических и социальных условий мест проживания носителей говоров. Мир флоры и фауны отражается в лингвосоз-нании представителей различных русских диалектных сообществ многообразием лексикосемантических и фразеологических единиц, что подтверждается изоглоссами на картах ЛАРНГ. Существуют также универсальные лексико-фразеологические средства языка, относящиеся к тому или иному объекту природы. Одной из таких номинаций является орнитоним кукушка (с фонетическими и деривационными вариантами), отмеченный на территории практически всей европейской части России.
Исследование показало, что наименования кукушки и ее птенца занимают значительное место в лингвосознании русского народа. Эти единицы имеют ономатопоэтическое происхождение, они испытали в русском диалектном континууме фонетические, деривационные и семантические преобразования. В семантике данных орнитонимов отражается «бинарная корреляция» (о термине см.: [Денисова, Кутьева, 2011, с. 108]), связывающая сферу живой природы, к которой они принадлежат по денотативным признакам, и сферу человеческого характера – об- ласть, куда приводит их развитие коннотативно-контекстуальной семантики, обусловленное спецификой лингвокреативного мышления языковой личности. В диалектной речи происходят процессы семантического развития единиц. Орнитонимы кукушка и кукушонок употребляются с метафорическими переносами, относящимися к номинациям человека.
Список литературы Названия кукушки и кукушонка в русском народном лингвосознании
- Бернштам Т. А., 1981. Обряд «крещение и похороны кукушки» // Материальная культура и мифология. Т. 37 : сб. ст. / отв. ред. Б. Н. Путилов. Л. : Наука. С. 179-209.
- Булаховский Л. А., 1948. Общеславянские названия птиц // Известия АН СССР. ОЛЯ. Т. 7. Вып. 2 / отв. ред. И. И. Мещанинов. М. ; Л. : Изд-во АН СССР. С. 97-124.
- Бурыкин А. А., 2017. Слово о полку Игореве: текст, язык, автор. СПб. : Петербург. востоковедение. 416 с.
- Виноградова Л. И., 1999. Крестить кукушку // Славянские древности: этнолингвистический словарь. В 5 т. Т. 2 / под общ. ред. Н. И. Толстого. М. : Междунар. отношения. С. 672-674.
- Гура А. В., 2004. Кукушка // Славянские древности: этнолингвистический словарь. В 5 т. Т. 3 / под общ. ред. Н. И. Толстого М. : Междунар. отношения. С. 36-40.
- Гусев Л. Ю., 1996. Орнитонимы в фольклорном тексте : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Курск. 20 c.
- Денисова А. П., Кутьева М. В., 2011. Орнитоним «кукушка» в языковой картине носителей русского и испанского языка // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания. №№ 3. С. 98-108.
- Левина Г. М., 1975. Кукушка, кокушка, загоска // Русская речь. № 6. С. 71-72.
- Лихачев Д. С., 1987. Избранные работы. В 3 т. Т. 2. Великое наследие ; Смех в Древней Руси ; Заметки о русском. Л. : Худож. лит. 496 с.
- Мальчевский А. С., 1987. Кукушка и ее воспитатели. Л. : Изд-во Ленингр. гос. ун-та. 264 с. (Серия «Жизнь наших птиц и зверей» ; вып. 9).
- Мещерский Н. А., 1995. К вопросу о территориальном приурочении первоначального текста «Слова о полку Игореве» по данным лексики // Избранные статьи / отв. ред. и сост. Е. Н. Мещерская. СПб. : Яз. центр филол. фак. СПбГУ С. 153-186.
- Соколова Л. В., 1993. К характеристике «Слова» Даниила Заточника : (Реконструкция и интерпретация первоначального текста) // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 46 / отв. ред. Д. С. Лихачев. СПб. : Дмитрий Буланин, 1993. С. 229-255.
- Тишина Е. В., 2010. Русская ономатопея: диахрон-ный и синхронный аспекты изучения : авто-реф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград. 21 с.
- Шарлемань Н. В., 1948. Из реального комментария к «Слову о полку Игореве» // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 6 / отв. ред. В. П. Адрианова-Перетц, И. П. Ерёмин. М. ; Л. : Изд-во АН СССР. С. 111-124.
- Makatsch W., 1949. Unser Kuckuck. Wittenberg (Lutherstadt) : A. Ziemsen Verlag. 42 S.
- Molnar B., 1944. The Cuckoo in the Hungarian Plaine // Aquila. Vol. 51. Budapest : A Magyar Ornithologiai Központ Kiadvanya. Р. 100-112.
- Беломор. - Беломорские старины и духовные стихи : Собрание А. В. Маркова. СПб. : Дмитрий Буланин, 2002. 1080 с.
- БТС - Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 1998. 1536 с.
- Заболоцкий - Заболоцкий Н. А. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 2. Переводы / примеч. Е. Заболоцкой, Л. Шубина. М. : Худож. лит., 1984. 463 с.
- Заруб. - Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам / пригот. к печати Н. Н. Зарубин. Л. : Изд-во АН СССР, 1932. XVI, 166 с.
- Киреев. - Песни, собранные П.В. Киреевским. Изданы Обществом любителей российской словесности. Ч. 2. Вып. 6. М. : Тип. Лазаревского ин-та вост. яз., 1864. 212 с.
- Клюев - Клюев Н. А. Стихотворения и поэмы / сост., подгот. текста и примеч. Л. К. Швецовой ; вступ. ст. В. Г. Базанова. 2-е изд. Л. : Сов. писатель, 1982. 560 с.
- ЛАРНГ - Лексический атлас русских народных говоров. Т. 1. Растительный мир. М. ; СПб. : Нестор-История, 2017. 736 с.
- Лихачев - Лихачев Д. С. Слово о полку Игореве // Изборник : сб. произведений лит. Древней Руси. М. : Худож. лит., 1969. С. 196-213, 715-726. (Библиотека всемирной литературы).
- Мерило Праведное - Мерило Праведное по рукописи XIV века / изд. под наблюдением и со вступ. ст. акад. М. Н. Тихомирова. М. : Изд-во АН СССР, 1961. XIV, 698 с.
- Палея Толковая - Палея Толковая по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. : в 2 вып. / труд учеников Н.С. Тихонравова. М. : Тип. и словолитня О. Гербска, 1892-1896. Вып. 1. 1892. 208 с. ; Вып. 2. 1896. 209-416 с.
- Слово Ж. - Слово о полку Игореве / пересказ В. Жуковского. М. : Белый город, 2003. 48 с.
- Слово Ч. - Слово о полку Игореве / под ред. А. Чернова. СПб. : Летний сад, 2010. 512 с.
- Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. Т. 1. Ч. 2. М. : Книга, 1989. Стб. 806-1419, 49 с.
- СРНГ - Словарь русских народных говоров. М. ; Л. (СПб.) : Наука, 1965-2018. Вып. 1-50 / гл. ред. Ф. П. Филин (вып. 1-23) ; Ф. П. Соро-колетов (вып. 24-42) ; Ф. П. Сороколетов, отв. ред. С. А. Мызников (вып. 43-46); С. А. Мызников (вып. 47-50).
- Фасмер - Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. / пер. с нем. и доп. О. Н. Тру-бачева ; под ред. Б. А. Ларина. Изд. 2-е, стер. М. : Прогресс, 1986-1987. 4 т.