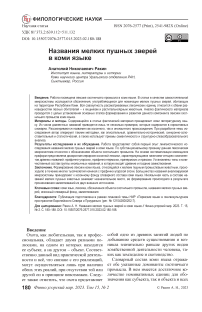Названия мелких пушных зверей в коми языке
Автор: Ракин А. Н.
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 2 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. Работа посвящена лексике охотничьего промысла в коми языке. В статье в качестве самостоятельной микросистемы исследуются обозначения, употребляющиеся для номинации мелких пушных зверей, обитающих на территории Республики Коми. Вся совокупность рассматриваемых лексических единиц относится к обеим разновидностям лесных обитателей - к хищникам и растительноядным животным. Анализ фактического материала проводится с целью установления основных этапов формирования и развития данного компонента лексики охотничьего промысла коми языка. Материалы и методы. Содержащийся в статье фактический материал принадлежит коми литературному языку. Из числа диалектных названий приводятся лишь те несколько примеров, которые содержатся в нормативных словарях. Рассматриваются названия как исконного, так и иноязычного происхождения. При разработке темы исследования автор оперирует такими методами, как описательный, сравнительно-исторический, синхронно-сопоставительный и статистический, а также использует приемы семантического и структурно-словообразовательного анализа. Результаты исследования и их обсуждение. Работа представляет собой первый опыт лингвистического исследования названий мелких пушных зверей в коми языке. По субстанциональному признаку данная лексическая микросистема относится к обозначениям объекта охотничьего промысла. На основе систематизации имеющихся праформ представлена диахронная иерархия исконной лексики, характеризующаяся наличием четырех компонентов древних названий: прафинно-угорских, прафинно-пермских, прапермских и пракоми. Установлены типы и количественный состав группы иноязычных названий, в которую входят древние и поздние заимствования. Заключение. Формирование лексики коми языка, относящейся к мелким пушным промысловым животным, происходило в течение многих тысячелетий начиная с прафинно-угорской эпохи. Большинство названий анализируемой микросистемы принадлежит к исконному фонду словарного состава коми языка. Иноязычная часть в составе названий мелких пушных животных занимает незначительное место, ее формирование происходило в результате проникновения заимствований из двух внешних источников.
Коми язык, лексика, обозначения объекта охотничьего промысла, названия мелких пушных зверей, исконный словарный фонд, заимствования
Короткий адрес: https://sciup.org/147240532
IDR: 147240532 | УДК: 81’373, | DOI: 10.15507/2076-2577.015.2023.02.180-188
Текст научной статьи Названия мелких пушных зверей в коми языке
Охота, как любительская, так и профессиональная, обладает двумя разными полюсами, на одном из которых находится ее субъект, а на другом – объект. Соответственно данный вид практической деятельности и всё, что связано с его реализаций, могут осуществляться лишь при наличии обеих этих реалий, при отсутствии той или другой он в принципе невозможен. Следует также отметить, что охота представляет собой одно из древних занятий людей по добыванию средств существования и возникла значительно раньше других видов хозяйственной деятельности человека, таких как земледелие и скотоводство.
Словарный состав коми языка отражает обе указанные доминанты охотничьего промысла. В нем имеется достаточное количество номинативных единиц для обозначения как субъекта, так и объекта и всех связанных с ними предметов охоты. При исследовании и описании лексики охотничьего промысла могут быть применены разные принципы классификации фактического материала, в том числе и такой экстралингвистический критерий, как размеры тела представителей промысловой фауны. С учетом этих показателей систематизация номинативных единиц позволяет выделить три самостоятельные микросистемы: а) обозначения крупных зверей (медведь, лось и др.); б) обозначения зверей средних размеров (лиса, заяц и др.); в) обозначения мелких пушных зверей (соболь, белка и др.). Поскольку первые две микросистемы рассмотрены в предыдущей нашей публикации [6], настоящая работа посвящена третьей микросистеме, т. е. названиям мелких пушных зверей.
Обзор литературы
В отечественном финно-угроведении разработка проблемы «Лексика охотничьего промысла» находится на начальной стадии. К настоящему времени по данной теме опубликованы три статьи. Одна из них подготовлена на материале марийского языка [5], две другие – коми-зырянского [6; 7].
Материалы и методы
Основным источником фактического материала послужила соответствующая часть словарного фонда коми языка, содержащаяся в лексикографических изданиях и специальных словарях (КРК; РКС; ПНК). Приведены сопоставительные примеры из коми-пермяцкого и удмуртского языков (КПРС; КПРС-РКПС; УРС). Краткие биологические сведения о промысловых животных заимствованы из источников справочного характера (ЖМК; РКЭ). Диахроническая классификация исконного компонента анализируемой лексики осуществлялась посредством реконструкций из этимологических источников (КЭСКЯ; Rédei, 1988). Группа названий иноязычного происхождения, их количество и источники установлены с помощью исходных слов, содержащихся как в отечественной (Даль; СРЯ; СРГСУ), так и в зарубежной [10] литературе. Наряду с лингвистическими дан- ными учитывались также сведения, приведенные в некоторых этнографических изданиях [1; 2]. Использовалась технология разработки темы, которая была создана автором при подготовке предыдущих двух исследований.
Результаты исследования и их обсуждение
Микросистема обозначений мелких пушных зверей в коми языке состоит из 29 названий, относящихся к 11 объектам номинации, часть из которых – хищники (соболь, горностай, норка, куница, кидус, ласка, крот).
Хищные звери питаются другими лесными животными. Так, соболю в качестве пищи служат белки и бурундуки, а также зайцы. Зимой в ночное время он «охотится» на рябчиков, глухарей и тетеревов, укрывшихся под снегом от холода. Поедает мышевидных грызунов: полевок и пищух. Для куницы основу питания составляют белки, а кроме них – мелкие грызуны, лягушки, ящерицы, насекомые. Как и соболь, она нападает на довольно больших лесных обитателей: зайца или глухаря. Часто разоряет птичьи гнезда, поедая яйца и птенцов. Кидус – помесь куницы и соболя – питается грызунами, зайцами, птицами, насекомыми, летом добавляет в меню ягоды и орехи. В рацион норки входят преимущественно крысы, мыши, рыба, земноводные и беспозвоночные. Горностай при охоте проверяет норы водяных крыс и бурундуков. При обнаружении хозяев не только убивает их, но и присваивает жилище и всё, что там находится. Его добычей становятся также птицы, их яйца, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы, насекомые. Ласка употребляет в пищу домовых, полевых и лесных мышей, землероек, крыс, кротов, ящериц, голубей, мелкую рыбу. Грызунов она добывает, проникая в их норы, а зимой – в снежные ходы (ЖМК, с. 44). Крот поедает в основном дождевых червей и подземных насекомых.
Остальные четыре представителя мелких пушных зверей (белка, белка-летяга, бурундук, водяная крыса) не являются хищниками. Они существуют за счет употребления растений. Основу рациона белки
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ составляют семена хвойных деревьев: ели, сосны, кедра, которые зимой служат единственным кормом для этих зверей. Летом она питается травой, ягодами – рябиной, брусникой, можжевельником, костяникой. Любит грибы и даже сушит их впрок, насаживая осенью на ветки деревьев. Несмотря на то что водяные крысы считаются всеядными животными, они также предпочитают растительную пищу. На водоемах поедают корневища и плоды кувшинок, стрелолиста, а на полях и огородах – хлебные зерна и корнеплоды: картофель, морковь, свеклу. Белка-летяга обыкновенная питается вегетативными частями растений – почками, сережками, побегами, семенами и ягодами. Подобно белке и бурундуку, делает запасы пищи на всю зиму, так как в спячку не впадает, а в сильные морозы не выходит из гнезда по нескольку суток. Основная пища бурундука – семена хвойных древесных пород, зерна культурных злаков, если обитает около полей. В небольших количествах им поедаются лесные ягоды и другие части растений (РКЭ, с. 279).
В работе анализируется фактический материал, принадлежащий коми литературному языку. Исключение составляют два примера, относящиеся к теме исследования, которые не являются общеупотребительными, а имеют территориально ограниченное распространение и отмечены в нормативном словаре соответствующими пометами: чуш диал. ‘норка’ (КРК, с. 722) и сер диал. ‘куница’ (КРК, с. 581).
Для номинации объектов обозначения данной микросистемы в коми языке употребляется не одно, а несколько названий, образующих синонимические ряды. Как показывает рассматриваемый материал, такие ряды состоят из двух, четырех и пяти членов.
Двучленные ряды: сьöдбöж , чужмöр ‘горностай’, анча , чуш ‘норка’, тулан , сер ‘куница’, орда , визяорда ‘бурундук’ и др.
Четырехчленные ряды: борда ур , палюр , кушпаль , паляур ‘белка-летяга’, вурдысь , зымшыр , муош , му шыр ‘крот’.
Пятичленный ряд: ур , гöрд ур , пыжик ур , лöз ур , чирас ур ‘белка’.
Структурно-словообразовательная система обозначений мелких пушных зверей складывается из трех типов номинативных единиц: однословные лексемы (непроизводные и производные), двучленные образования (композиты) и составные названия.
Непроизводные слова состоят только из корневой морфемы, иных морфологических элементов не имеют. В данную группу названий входят следующие слова: низь ‘соболь’, чуш ‘норка’, сер ‘куница’, ур ‘белка’.
Производными обозначениями являются тулан ‘куница’ и орда ‘бурундук’, которые современными носителями коми языка воспринимаются как нечленимые морфологические единицы. Но с исторической точки зрения они считаются производными образованиями, имеющими в составе словообразовательные элементы. Так, относительно слова тулан ‘куница’ предполагается, что оно образовано от исчезнувшего глагола тулны ‘мелькать, мчаться, подкрадываться’ с помощью суффикса -ан (КЭСКЯ, с. 426). Орда ‘бурундук’, видимо, появилось в результате сокращения широко употребляющегося в современном коми языке синонимического названия бурундука визяорда , буквально обозначающего ‘полосатобокий, полосатобокий бурундук’ ( визя ‘полосатый’, орда ‘бурундук’). Производящая основа в составе этих двух названий орд имела первоначальную семантику ‘бок’ (КЭСКЯ, с. 206). Элемент -а является древним суффиксом отыменных прилагательных. По мнению некоторых исследователей, в данной функции он существовал уже в общепермскую эпоху [8, 174 ].
Группа композитных образований, т. е. двучленных названий в слитном или дефисном написании, которые структурно отличаются как от однословных лексических единиц, так и от названий из двух и более частей свободных сочетаний, включает в себя следующие обозначения: сьöдбöж ‘горностай’, ычи-кычи ‘ласка’, кушпаль ‘белка-летяга’, палюр ‘белка-летяга’, паляур ‘белка-летяга’, зымшыр ‘крот’, муош ‘крот’.
Как видим, из числа приведенных композит часть названий имеют переносное значение: сöдбöж ‘горностай (букв.: чер- ный хвост)’, муош ‘крот (букв.: земляной медведь)’.
В остальных примерах один из компонентов в современном коми языке никак не осмысляется и без второй части не употребляется: ычи-кычи ‘ласка’ ( ычи- + кычи ‘собачка’), зымшыр ‘крот’ ( зым- + шыр ‘мышь’), кушпаль ‘белка-летяга’ ( куш ‘голый’ + -паль ), палюр , паляур ‘белка-летяга’ ( паль -, паля - + юр < ур ‘белка’).
Составные названия представляют собой двучленные словосочетания; образования с большим количеством частей здесь отсутствуют. Все обозначения данной группы образованы по двум структурным моделям:
-
1) «существительное + существительное»: ва шыр ‘водяная крыса’ ( ва ‘вода’ + шыр ‘мышь’), му шыр ‘крот’ ( му ‘земля’ + шыр ‘мышь’), чирас ур ‘белка’ ( чирас ‘прошлогодняя кислая шишка’ + ур ‘белка’) и т. д.;
-
2) «прилагательное + существительное»: васа вурдысь ‘водяная крыса’ ( васа ‘водяной’ + вурдысь ‘крот’), борда ур ‘белка-летяга’ ( борда ‘крылатый’ + ур ‘белка’), гöрд ур ‘белка в летнем меху’ ( гöрд ‘красный, рыжий’ + ур ‘белка’), лöз ур ‘белка в зимнем меху’ ( лöз ‘серый’ + ур ‘белка’).
С помощью семантической классификации всю совокупность лексических единиц, относящихся к мелким пушным животным, можно распределить по двум основным группам: 1) немотивированные обозначения и 2) мотивированные названия.
Немотивированные названия, не имея смыслового значения, выполняют чисто номинативную функцию – называют соответствующего представителя промысловой фауны без указания на какой-либо денотативный признак, которым он обладает. Таковыми являются в основном одночленные лексемы: ур ‘белка’, чуш ‘норка’, тулан ‘куница’ и т. д.
Мотивированные названия выполняют не одну, а две функции: они не только называют соответствующую реалию, но и указывают на тот или иной признак, на какую-нибудь отличительную черту объекта обозначения. Например, некоторые названия характеризуют промысловых животных по месту их обитания: ва шыр ‘во- дяная крыса’ (КРК, с. 754) (ва ‘вода’, шыр ‘мышь’), му шыр ‘крот’ (КРК, с. 754) (му ‘земля’, шыр ‘мышь’).
Смысловое содержание следующих названий свидетельствует о том, что при номинации может быть использован и такой мотивировочный признак, как цвет шерстного покрова и особенности строения тела. У белки летний мех имеет красный цвет, поэтому по-коми она называется гöрд ур (ПНК, с. 49) ( гöрд ‘красный, рыжий’, ур ‘белка’). К зиме этот пушной зверек становится серым и получает название лöз ур (КРК, с. 360) ( лöз ‘синий, серый’, ур ‘белка’).
Бурундука отличает наличие пяти темных полос вдоль спины, что отражает его название визяорда ( визя ‘полосатый’).
У горностая всегда (и зимой и летом) кончик хвоста черный – именно эта особенность обусловила появление в коми языке его названия сьöдбöж (букв.: ‘черный хвост’). Аналогичные обозначения имеются в двух других близкородственных языках: кп. сьöдбöж ‘горностай’ (ПНК, с. 162), удм. сьöдбыж ‘горностай’ (УРС, с. 621).
Белка-летяга между передними и задними конечностями имеет не покрытую шерстью перепонку, которой она в расправленном виде пользуется как парашютом во время перепрыгивания с дерева на дерево и планирования при полете в воздухе. Эти факты послужили основой для образования коми названий борда ур ‘белка-летяга’ (ПНК, с. 132) (букв.: ‘крылатая белка’) и кушпаль ‘белка-летяга’ (ПНК, с. 132) ( куш ‘голый’).
Средства питания также могут быть мотивировочным признаком при номинации мелких пушных зверей. Как известно, основным кормом для белки служат семена хвойных пород, которые она добывает из шишек ели, сосны и кедра. Но эти древесные семена образуются не всегда, периодически бывают неурожайные годы. В таких условиях, чтобы не погибнуть от голода, белки вынуждены находить упавшие на землю прошлогодние шишки с прокисшими семенами и питаться ими. Данным обстоятельством обусловлено образование в коми языке названия чирас ур ‘белка, пита-
(ryi ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ющаяся прошлогодними шишками’ (ПНК, с. 192). Первый компонент чирас в составе данного обозначения имеет значение ‘кислый’.
С точки зрения происхождения в составе анализируемой микросистемы, как и в других отраслях словарного фонда коми языка, можно выделить две части – исконную и заимствованную. В соответствии с хронологией возникновения в исконной части различаются допермские, прапермские и собственно коми-зырянские образования.
Особенностью допермского фонда анализируемых обозначений является то, что в нем отсутствуют слова, возникшие в пра-уральском языке, просуществовавшем до 4-го тыс. до н. э. [4, 409 ]. Остальные два компонента древней лексики (прафинно-угорские и прафинно-пермские) имеются.
К названиям прафинно-угорского периода – начало 4-го – конец 3-го тыс. до н. э. [4, 424 ] – относится обозначение соболя низь (КРК, с. 430), кп. низь уст. ‘соболь’ (КПРС, с. 273), удм. низь ‘соболь’ (УРС, с. 465) < общеп. * n'i Ǯ ' ‘соболь’ (КЭСКЯ, с. 190). Кроме близкородственных генетические соответствия имеются в финском, эстонском, хантыйском, мансийском, венгерском языках: < ф.-у. * n'uks'e ( n'ukɜ-s'ɜ ) ‘соболь’. В этимологических источниках сопоставительные примеры приводятся также из некоторых самодийских, тунгусских и палеосибирских языков, на основании чего допускается, что данное древнее название могло возникнуть в более раннюю, чем прафинно-угорская, эпоху (Rédei, 1988, с. 326).
Финно-пермский праязык приурочивается к периоду с конца 3-го до середины 2-го тыс. до н. э. [4, 433 ]. Из числа древних обозначений к данной группе, как и к предыдущей, принадлежит одно коми-зырянское слово: ур ‘белка’ (КРК, с. 688), кп. ур ‘белка’ (КПРС, с. 514) < общеп. * ur ‘белка’ (КЭСКЯ, с. 291). Удмуртское обозначение белки коньы (УРС, с. 317) с коми словами этимологически не связано. Генетические соответствия имеются в финском, саамском, марийском и мордовских языках: < ф.-п. * ora ‘белка’ (Rédei, 1988, с. 343).
Следующие названия унаследованы из прапермского языка, возникшего в ре- зультате распада прафинно-пермского языка-основы и просуществовавшего со 2-го тыс. до н. э. до VIII в. н. э. [9, 49]. Обозначения данной хронологической группы в количестве пяти слов употребляются только в современных пермских языках и соответствий в других родственных языках не имеют:
орда ‘бурундук’ (КРК, с. 459), кп. орда ‘бурундук’ (КПРС, с. 294), удм. урдо ‘бурундук’ (УРС, с. 698) < общеп.* o̭ rda ‘бурундук’ (КЭСКЯ, с. 206);
сер ‘куница’ (КРК, с. 561), удм. сёр ‘куница’ (УРС, с. 595) < общеп. * s'ḙr ‘куница’ (КЭСКЯ, с. 250);
чужмöр ‘горностай’ (КРК, с. 715), кп. чужмöр ‘горностай’ (КПРС, с. 544), удм. ӵöжмер ‘горностай’ (УРС, с. 750) < общеп. * čȯ̭ žmɛr ‘горностай’ (КЭСКЯ, с. 312);
палюр , паляур ‘белка-летяга’ (КРК, с. 481; ПНК, с. 132), кушпаль ‘белка-летяга’ (КРК, с. 132), кп. паль ур ‘белка-летяга’ (КПРС, с. 319), удм. пулё ‘белка-летяга’ (УРС, с. 556) < общеп. * pål'a ‘белка-летяга’ (КЭСКЯ, с. 216);
сьöдбöж ‘горностай’ (КРК, с. 624), кп. сьöдбöж ‘горностай’ (ПНК, с. 162), удм. сьöдбыж ‘горностай’ (УРС, с. 621) < общеп. * s'ȯ̭ d-bȯ̭ ž ‘горностай’.
Группа древних названий мелких пушных животных, состоящая из лексических единиц пракоми происхождения, характеризуется тем, что ее формирование происходило после завершения прапермской эпохи и расхождения общих предков коми с удмуртами, т. е. в период с IX по XI в. н. э. [3, 25 ]. Поэтому данный разряд номинативных единиц употребляется лишь в двух северных пермских языках – коми-зырянском и пермяцком: кз. визяорда ‘бурундук’ (КРК, с. 102), кп. виззяорда ‘бурундук’ (КПРС, с. 73); кз. ва шыр ‘водяная крыса’ (КРК, с. 754), кп. ва шыр ‘водяная крыса’ (КПРС, с. 576); кз. му шыр ‘крот’ (КРК, с. 754), кп. му шыр ‘крот’ (КПРС-РКПС, с. 198); кз. тулан ‘куница’ (КРК, с. 661), кп. тулан ‘куница’ (КПРС, с. 492).
Следует отметить, что из состава обще-коми лексики в соответствующих источниках этимологизируются в основном одночленные названия. Что касается обо- значений, состоящих из двух компонентов (слов), которые, вероятно, также возникли в пракоми эпоху, то они обычно в специальных работах не рассматриваются и реконструкции праформ для них не производятся.
В диахронической иерархии исследуемой микросистемы самый верхний (или поздний) слой составляют собственно коми-зырянские обозначения. Эти названия мелких промысловых зверей употребляются только носителями современного коми-зырянского языка; на территориях проживания других родственных народов, в том числе коми-пермяков, они отсутствуют.
Группу собственно коми-зырянских обозначений образуют 11 номинативных единиц: анча ‘норка’ (КРК, с. 28), борда ур ‘белка-летяга’ (ПНК, с. 132), васа вур-дысь ‘водяная крыса’ (КРК, с. 128), зым-шыр ‘крот’ (КРК, с. 235), чуш ‘норка’ (КРК, с. 722), ычи-кычи ‘ласка’ (КРК, с. 765; РКС, с. 87) и т. д.
Название норки анча считается древне-коми образованием, первоначально состоящим из двух самостоятельных частей. Первый компонент ан - выводится из слова ань ‘женщина, женский’, который содержится в ряде других сложных слов коми языка, например в таких как ань кытш ‘горох’, шом ань ‘щавель’, где, имея переносное значение, он выполняет уменьшительно-ласкательную функцию. Исследователи полагают, что второй компонент - ча этимологически связан с удмуртским названием норки чайы (УРС, с. 817) и изменение структуры коми слова соответственно происходило следующим образом: ап'-c'aji > an'-c'ai > ань-ча > анча (КЭСКЯ, с. 390).
Неисконная часть микросистемы мелких пушных зверей складывается из древних (одно слово) и поздних (три названия) заимствований.
Название крота вурдысь , употребляющееся только в коми-зырянском языке и не имеющее генетических соответствий в других пермских языках, считается заимствованием индоиранского происхождения. В качестве доказательства данной версии приводятся названия: др.-инд. undurus ‘мышь, крыса’, др.-перс. wudro ‘водяное животное’ (КЭСКЯ, с. 70).
Группа поздних заимствований состоит из названий русского происхождения:
кидус, кидас ‘помесь куницы и соболя’ (КРК, с. 271) < рус., ср. кидус ‘помесь куницы и соболя’ (СРГСУ, с. 25; КЭСКЯ, с. 123);
ласича ‘ласка’ (КРК, с. 346, РКС, с. 87) < рус., ср. ласица ‘зверек’ (Даль, с. 238) [10, 75 ], ластица ‘зверек ласка’ (СРГСУ, с. 87);
соболь ‘соболь’ (КРК, с. 600) < рус., ср. соболь ‘пушной зверек сем. куньих, с ценным мехом светло-коричневой или темнобурой окраски’ (СРЯ, с. 170).
Заключение
Таким образом, впервые в пермском языкознании проведено лингвистическое исследование той части словарного фонда коми-зырянского языка, которая относится к лексике охотничьего промысла и состоит из названий мелких пушных зверей. На основе субстанциальных признаков, а также исходя из состава объектов номинации и предназначенного для их обозначения разряда лексических единиц данная группа рассмотрена в качестве самостоятельной микросистемы.
Обозначения мелких пушных зверей в работе подвергнуты анализу с учетом их предметно-понятийного содержания, а кроме того, на семантическом и структурном уровнях. Применение сравнительно-исторического метода исследования показало, что исконная часть данной микросистемы имеет древние истоки. В ней, как и в других разновидностях словарного состава, в соответствии с хронологией возникновения различаются допермский, общепермский, пракоми и собственно коми-зырянский компоненты. Допермский фонд характеризуется наличием двух компонентов древней лексики: прафинно-угорской и пра-финно-пермской, особенностью которых, в отличие от групп более позднего происхождения, служит то, что они сохранились и употребляются как в близкородственных, так и в дальнеродственных языках. Названия, появившиеся в прапермскую эпоху, общие для современных трех пермских языков и не имеют дальнеродственных генетических соответствий (самодийских, угорских, прибалтийско-финских, марийско-мордовских). Отдельную группу составляют обозначения, возникшие после
(^Jl ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ завершения прапермской эпохи и образования пракоми языка. Самыми поздними являются лексемы, которые, кроме коми-зырянского языка, больше нигде не употребляются. Структурно-словообразовательная система данной хронологической группы представлена однословными не- производными и производными образованиями, композитами и составными названиями. Начало формирования иноязычного компонента относится к прапермской эпохе. Его пополнение в последующие периоды произошло за счет небольшого числа заимствований русского происхождения.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ диал. – диалектное слово др.- инд. – древнеиндийский язык др.- перс. – древнеперсидский язык кз. – коми-зырянский язык кп. – коми-пермяцкий язык общеп. – общепермский язык-основа рус. – русский язык удм. – удмуртский язык уст. – устаревшее слово ф.-п. – финно-пермский праязык ф.-у. – финно-угорский праязык
Даль – Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. 2.
ЖМК – Остроумов Н. А. Животный мир Коми АССР: Позвоночные. Сыктывкар, 1972.
КПРС – Коми-пермяцко-русский словарь. М., 1985.
КПРС- Коми-пермяцко-русский, русско-коми- РКПС – пермяцкий словарь. Кудымкар, 1993.
КРК – Коми-роч кывчукöр. Сыктывкар, 2000.
КЭСКЯ – Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми языка. Сыктывкар, 1990.
ПНК – Пемöс нимъяслöн кывкуд / сост. А. Н. Ракин. Сыктывкар, 2002.
РКС – Русско-коми словарь.
Сыктывкар, 2003.
РКЭ – Республика Коми: Энциклопедия.
Сыктывкар, 1997. Т. 1.
СРГСУ – Словарь русских говоров
Среднего Урала. Свердловск, 1971. Т. 2.
СРЯ – Словарь русского языка / под. ред.
А. П. Евгеньевой. М., 1984. Т. 4.
УРС – Удмуртско-русский словарь.
Ижевск, 2008.
Rédei, Rédei K. Uralisches etymologisches
1988 – Wörterbuch. Budapest, 1988. Bd. 1–2.
Original article
DOI: 10.15507/2076-2577.015.2023.02.180-188
PHILOLOGY
ISSN 2076-2577 (Print), 2541-982X (Online)

Список литературы Названия мелких пушных зверей в коми языке
- Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми. XIX - начало XX в. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1958. 393 с. (Тр. Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия; т. 45).
- Конаков Н. Д. Коми охотники и рыболовы во второй половине XIX - начале XX в.: Культура промысл. населения таеж. зоны европ. Северо-Востока. М.: Наука, 1983. 248 с.
- Лыткин В. И. Историческая грамматика коми языка. Ч. 1. Введение. Фонетика. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1957. 135 с.
- Основы финно-угорского языкознания. Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков / ред. коллегия: д-р филол. наук В. И. Лыткин [и др.]. М.: Наука, 1974. 484 с.
- Пекшеева Э. И. Историко-генетический анализ некоторых названий охотничьих ловушек в марийском языке // Финно-угроведение. 2019. № 1. С. 18-23.
- Ракин А. Н. Номинация объекта охотничьего промысла в коми языке // Финно-угорский мир. 2022. Т. 14, № 2. С. 171-185.
- Ракин А. Н. Обозначения субъекта охотничьего промысла в коми языке // Вестник угроведения, 2021. Т. 11. № 2. С. 319-327.
- Серебренников Б. А. Историческая морфология пермских языков. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963. 391 с.
- Хайду П. Уральские языки и народы / пер. с венг. Е. А. Хелимского; под ред. К. Е. Майтинской; предисл. Б. А. Серебренникова. М.: Прогресс, 1985. 430 с.
- Kalima J. Die russischen Lehnwörter im Syrjänischen. Helsingfors: Druckerei der Finnischen Litteraturgesellschaft, 1910. 187 s. (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia; 29).