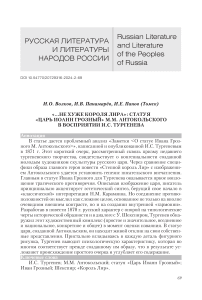"...Не хуже короля Лира": статуя "Царь Иоанн Грозный" М.М. Антокольского в восприятии И.С. Тургенева
Автор: Волков И.О., Панамарв И.В., Панов Д.Е.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье дается проблемный анализ «Заметки », написанной и опубликованной И.С. Тургеневым в 1871 г. Этот короткий очерк, рассмотренный сквозь призму недавнего тургеневского творчества, свидетельствует о конгениальности созданной молодым художником скульптуры русского царя. Через сравнение специфики образа главного героя повести «Степной король Лир» с изображением Антокольского удается установить генезис писательского впечатления. Главным в статуе Ивана Грозного для Тургенева оказывается яркое воплощение трагического противоречия. Описывая изображение царя, писатель принципиально акцентирует эстетический синтез, берущий свое начало в «классической» интерпретации Н.М. Карамзина. Но соединение противоположностей он мыслил как сложное целое, основанное не только на вполне очевидном внешнем контрасте, но и на создании внутренней «гармонии». Разработав в повести 1870 г. русский характер с опорой на типологические черты исторической образности и в диалоге с У. Шекспиром, Тургенев обнаружил этот художественный комплекс (простое и значительное, вседневное и национальное, конкретное и общее) в момент оценки изваяния. В статуе царя, созданной Антокольским, он находит живой отклик на свои собственные представления. Пристально вглядываясь в каждую деталь фигурного рисунка, Тургенев выводит психологическую характеристику, которая во многом соответствует прежде созданному им образу, что в результате усложняет происхождение простого очерка и углубляет его содержание.
И.с. тургенев, м.м. антокольский, статуя «царь иоанн грозный», иван грозный, шекспир, «король лир»
Короткий адрес: https://sciup.org/149146239
IDR: 149146239 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-69
Текст научной статьи "...Не хуже короля Лира": статуя "Царь Иоанн Грозный" М.М. Антокольского в восприятии И.С. Тургенева
Чрезвычайный интерес И.С. Тургенева к изобразительному искусству в науке давно отмечен и имеет продолжительную историю изучения. Особенно важна работа П.Р. Заборова, впервые обобщившего и осмыслившего наиболее значительные моменты тургеневского интереса к живописи, скульптуре и архитектуре Западной Европы [Заборов 1986, 124–155]. Важной особенностью рецепции писателем изобразительного искусства, прямо отразившейся в его эпистолярии и критике, было тонкое внутреннее сближение с предметом любования и восхищения, которое получало непосредственное эстетическое проявление – включение в собственное творчество (см., например, о восприятии Рафаэля: [Рубцова, Васильева 2019, 819–823]). Настоящая статья преследует цель проблемно осветить интерес Тургенева к статуе «Царь Иоанн Грозный» М.М. Антокольского, эстетические впечатления от которой стали точкой схождения долгих размышлений писателя над историческим образом Ивана IV и творческой рефлексией по поводу русского характера. Установление генетической связи между спецификой характера главного героя повести «Степной король Лир» и описанием скульптуры позволяет углубить и усложнить жанр «Заметки <О статуе Ивана Грозного М. Антокольского>», мало привлекавшей внимание исследователей и не получившей развернутой интерпретации.
Фигура первого русского царя занимала Тургенева на протяжении всей жизни, что было обусловлено грандиозностью ее исторического генезиса и глубокой противоречивостью самого содержания, вызывавшего оживленные споры в научных кругах и публицистике. В 1860-е гг. в русской литературе личность Ивана Грозного стала предметом усиленной художественной обработки, связанной со стремлением к психологизации на национально-историческом материале [Лотман 1961, 250]. Особый всплеск интереса пришелся на историческую драматургию: около десятка пьес, так или иначе посвященных эпохе грозного царствования, заняли театральный репертуар: драмы Л.А. Мея, И.И. Лажечникова, А.К. Толстого, Н.А. Чаева, Д.В. Аверкиева, А.Н. Островского. Среди эпических произведений выделились роман «Князь Серебряный» (1862) А.К. Толстого и «Рассказы из русской истории» А.Н. Майкова (1869).
Это внимание к личности царя и его времени обрамляется выходом двух исторических трудов на ту же тему: с одной стороны, печатается шестой том «Истории России с древнейших времен» (1856) С.М. Соловьева, а с другой – появляется статья «Личность царя Ивана Васильевича Грозного» (1871) Н.И. Костомарова. При этом литература и история здесь имеют одну отправную точку в изображении Ивана IV – это соответствующие (VIII и IX) тома «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, в которых монарх масштабно представлен человеком с расколотым надвое характером.
Тургенев прошел через этот литературно-исторический массив непосредственно, проявив интерес к отдельным авторам и произведениям. Например, пьесу «Василиса Мелентьева» после прочтения он охарактеризовал как «водянистая» [Тургенев 1994, 83], а к Островскому и современной исторической драме вообще предъявил требование: «жизнь, разнообразие и движение каждого характера, где драма, где История наконец?» [Тургенев 1988, 27]. «Князя Серебряного» Тургенев назвал «историческим романом в духе Вальтера Скотта», признавая опыт автора анахронизмом, но подчеркивая, что «образ Ивана Грозного ярко выделяется на фоне, где действуют самые разнообразные персонажи» [Тургенев 1990, 263]. Среди исторического же взгляда на Ивана IV писатель особенно отметил упомянутую статью Н.И. Костомарова, которую он прочитал «с великим удовольствием» [Тургенев 1999, 145].
Из художественного контекста времени, занятого трактовкой личности царя, Тургенев вышел с собственным опытом – им стала пореформен- ная повесть «Степной король Лир» (1870). В этом произведении Тургенев на первый план поместил «срединный тип» русской жизни и включил его в парадигму эпохального прошлого – позднего русского Средневековья, делая выразителем противоречий современности. В образ провинциального помещика Мартына Харлова с определяющей чертой характера – непомерной гордыней – писатель вложил заимствованные у Н.М. Карамзина магистральные черты Ивана IV, что позволило достичь масштаба изображения [Волков 2022, 269–270].
Словно следуя по страницам «Истории государства Российского», Тургенев наделяет главного героя повести – колоритного хозяина небольшого степного имения, переживающего страсти короля Лира и движущегося по драматической траектории его жизненной истории, – чертами и образом поведения Ивана Грозного. Прежде всего четко обозначена «царственная» природа Мартына Харлова, который именует свое поместье державой, крестьян – подданными, а более чем скромные помещичьи строения уподобляет княжескому двору. Здесь – перевернутая позиция короля Лира у Шекспира, который принимает целое королевство за личное владение, что, в свою очередь, полно соответствует обозначенному Карамзиным положению Ивана Грозного.
По примеру У. Шекспира, обращаясь к легендарному прошлому, Тургенев прочно укореняет Мартына Харлова в анналах национальной истории, относя возникновение его рода – через самосознание самого героя – ко времени правления Ивана IV. Образная связь провинциального помещика с русским царем усиливается в момент совершения лировского раздела имения, когда герой оставляет себе небольшой удел и называет его «опричным». Введение «опричнины» в «державе» Мартына Харлова осуществляется по карамзинскому описанию: Тургенев метафорически воспроизводит в повести добровольное «изгнание» царя в Александровскую слободу и торжественную форму объявления высочайшего решения. Особое же соответствие с карамзинским обликом Ивана Грозного обозначено писателем в плане психологической характеристики степного помещика. Основой этой связи служит шекспировская амбивалентность – трагическое соединение в одном характере разнонаправленных свойств: меланхолии и раздражительности. Историограф подробно показывает проявление двух царских крайностей, перекрещивая «злобное своенравие Тирана» [Карамзин 1821, 58] и «глас неумолимой совести» [Карамзин 1821, 167]. В таком же положении Тургенев рисует собственного героя, совмещая планы его изображения в минуты раздумья о бренности жизни в страхе неминуемой смерти и в моменты чрезвычайного раздражения ввиду оскорбленной гордости, из которых главным оказывается взрыв мстительного отцовского гнева.
Через несколько месяцев после того, как была опубликована повесть «Степной король Лир», перед взором Тургенева оказалась скульптура, изображавшая русского царя в чрезвычайном соответствии с собственными представлениями писателя. Эта статуя, названная «Царь Иоанн Грозный», принадлежала молодому художнику из Вильны М.М. Антокольскому.
Тургенев познакомился с автором скульптуры на второй день своего пребывания в Санкт-Петербурге, куда писатель приехал из Парижа. Он посетил мастерскую Антокольского 26 февраля 1871 г. и сразу же признал в нем «незаурядный талант» с «искрой божией» [Тургенев 1999, 312]. Важной эстетической основой знакомства стали впечатления именно от недавно оконченной художником статуи Ивана Грозного. О знакомстве с Антокольским («…молодым русским скульптором … который одарен незаурядным талантом») и произведенном изваянием царя («…с Библией на коленях, небрежно одетого, погруженного в мрачное и зловещее раздумье») эффекте Тургенев в тот же день кратко писал П. Виардо: «Я считаю эту статую просто шедевром по исторической и психологической глубине – и по великолепному исполнению» [Тургенев 1999, 312].
По более позднему признанию самого скульптора, именно этому произведению он обязан своей известностью и благосклонностью публики: «…всё тут Грозный, и если бы не он, то не только никто не знал бы меня, но даже решительно никто и знать не хотел бы» [Варенцова 2001, 140]. «Царь Иоанн Грозный» в одно мгновение сделал из бедного юноши академика, а пространство его рабочей каморки в несколько метров раздвинулось до международной выставки. Статуя способствовала тому, что на художника устремилось внимание русской и зарубежной печати, он удостоился монаршей милости и стал предметом высоких похвал со стороны И.Е. Репина, В.М. Гаршина, М.П. Мусоргского.
Подходя к изобразительному осмыслению русского царя, Антокольский, как и Тургенев, оказался в «обстановке обостренного интереса к русской истории XVI века» [Кузнецова 1989, 58]. В обширную сферу его внимания вошли художественные произведения, лекции профессоров, ученые труды, музыка. Сам художник оценивал ситуацию вокруг фигуры Ивана Грозного как спорную, складывающуюся из двух противных позиций: «Одни нападают, другие защищают; объективного, беспристрастного суждения до сих пор нет» [Марк Матвеевич Антокольский 1905, 941]. Представление об отсутствии единства и наличии явного противоречия во взглядах историков у него сложилось под влиянием преимущественно двух трудов – Костомарова и Соловьева, занявших прямо противоположные позиции. При этом в своем стремлении «вдумываться, расспрашивать, спорить и самому вывести заключение» [Марк Матвеевич Антокольский 1905, 941] он пришел к тому, что созданный им облик царя оказался очень близок карамзинскому. Именно в мучительном состоянии внутреннего раздвоения, которое крупно и полновесно очертил знаменитый историограф, Антокольский увидел всю суть скульптурного изображения:
«В нём дух могучий, сила больного человека, сила, перед которой вся русская земля трепетала. Он был грозный; от одного движения его пальца падали тысячи голов; он был похож на высохшую губку, с жадностью впивавшую кровь… и тем больше жаждал. День он проводил, смотря на пытки и казни, а по ночам, когда усталые душа и тело требовали покоя, когда всё кругом спало, у него пробуждались совесть, сознание и воображение; они терзали его, и эти терзания были страшнее пытки… Тени убитых им подступают, они наполняют весь покой – ему страшно, душно, он хватается за псалтырь, падает ниц, бьёт себя в грудь, кается и падает в изнеможении… На завтра он весь разбит, нервно потрясён, раздражителен… Он старается найти себе оправдание и находит его в поступках людей, его окружающих. Подозрения превращаются в обвинения, и сегодняшний день становится похож на вчерашний… Он мучил и сам страдал» [Марк Матвеевич Антокольский 1905, 942–943].
Портрет Ивана Грозного, выведенный Карамзиным именно с этими двумя противоположными акцентами – «мучил и страдал», Тургенев еще в 1846 г. назвал «фантастическим», имея в виду грандиозность (в подробности и детализации, ярких приметах и красках) представления им двух различных сторон характера царя, которые настолько контрастны, что как будто не укладываются в одно лицо. В своей оценке писатель близок к В.Г. Белинскому, тоже обратившемуся к парадоксальности царского облика и посчитавшему его сшитым «белыми нитками» [Белинский 1953, 108]. Однако уже тогда Тургенев в «двойственной, страстной природе» Ивана Грозного увидел широкую художественную перспективу: заданное Карамзиным монументальное противоречие стало для писателя предметом эпического моделирования на материале русской действительности.
Через четыре дня после посещения мастерской Антокольского Тургенев написал специальную заметку об увиденной им статуе царя. Этот очерк, тут же опубликованный в «Санкт-Петербургских ведомостях» (№ 50), не только выразил впечатления от собственно скульптуры, но и отразил специфику длительного художественно-эстетического осмысления писателем личности Ивана IV. Оценка Тургенева вобрала в себя предшествующий опыт рефлексии, где историческое сопряжено с художественным, а национальная образность тесно сплелась с шекспировской. Детально всматриваясь в статую Антокольского, Тургенев воспроизводит поэтику портрета ранее созданного им провинциального помещика Мартына Харлова. В описании скульптурного изображения Ивана IV он с предельной точностью дает психологический рисунок собственного героя, точно так же используя мотивы трагедии Шекспира.
Прежде всего для Тургенева значительным оказывается контрастная природа изваяния. Углубляясь в детали статуи Ивана Грозного, писатель поочередно перечисляет приметы, противоположные по заключенным в них смыслам. Он легко прочитывает разделение атрибутов в облике Ивана IV на те, что служат олицетворением царской власти, и те, что принадлежат далекой от мирских страстей сферы. С одной стороны, это «богатое старинное кресло», «тяжелая шуба в широких складках» и «известный остроконечный посох», а с другой – скуфья, халат «в виде подрясника», чётки и «раскрытое Евангелие» [Тургенев 1982, 259]. Тургенев акцентирует четкую границу между миром материального и духовного, которую и сам реализовал в своей повести, показав попытку главного героя удалиться от суетного мира.
Примечательна догадка, которая наделяет скульптуру дополнительной сюжетной включенностью в историю. Тургенев предполагает, что погруженный в «тяжкое раздумье» царь находится в «отдаленном покое дворца в Александровской слободе» [Тургенев 1982, 259]. Упоминание этого места вызывает ассоциацию с опричной политикой царя, ставшей наряду с разорением Новгорода одним из главных одиозных символов эпохи. Подробно Тургенев останавливается на застывшем выражении лица, так выстраивая его особенности (понурая голова, сдвинутые брови, сжатые губы, вниз и вбок устремлённые глаза), что они в едином ключе передают целостный психологический портрет. Именно эта нераздельность и органичность черт позволяет писателю назвать лицо царя «типически верным», т.е. полно соответствующим заложенному в нем внутреннему состоянию человека, хотя само это состояние оказывается неоднородным (поэтому лицо говорит как о немощи, так и о величии). Но если оно организовано в цельности чувственного изображения, то положение остального тела Тургенев воспринимает как соединение рассогласованных движений: «одной рукой он оперся о ручку кресла, как бы собираясь встать; другая лежит бессильно, обвитая чётками, с подвернутыми пальцами». Здесь же – «неровный рисунок плечей» [Тургенев 1982, 259], и можно добавить – одна нога выдвинута вперед, другая сокрыта под одеянием.
От описания внешнего вида статуи писатель переходит к его интерпретации, с тем чтобы уже более точно проявить психологическую составляющую. В «каждой подробности» Тургенев читает «все ощущения, все чувства, мысли, которые смутно, и сильно, и горестно задвигались в этой усталой душе» [Тургенев 1982, 259]. Ему важно обозначить в пластическом изображении отсутствие статики и зависимость словно замершего положения фигуры от хаоса внутренних переживаний. На основе видимого плана восприятия Тургенев создает индивидуальную характеристику скульптуры, которая также основана на смешении двунаправленных свойств человеческого состояния: «Тут и страх смерти, и раздражение больного человека, избалованного беззаветной властью, и раскаяние, и сознание греха, и застарелая злоба, и желчь, и подозрительность, и жестокость, и вечное искание измены…» [Тургенев 1982, 259–260]. Практически все обнаруживаемые в изваянии Ивана Грозного психологические черты «списаны» с Мартына Харлова. Не случайно Тургенев начинает с самых значительных, перечисляя их в одном ряду как составляющие неразрывную цепь. Именно из-за слепой убежденности в собственной беззаветной власти («Мое слово свято!») [Тургенев 1981, 171] провинциальный помещик, тяготясь страхом смерти, оказывается в положении глубокого противоречия, из которого нет выхода, возможен лишь трагический исход. Сбросив, по примеру короля Лира, со своих дряхлых плеч «ярмо забот», степной дворянин мечется между двумя крайностями – от несостоявше-гося смирения гордыни до восстановления попранного отцовского достоинства. Природная раздражительность не может сосуществовать с желанием покаяния, вследствие чего его начинают терзать «и злоба, и желчь, и подозрительность, и жестокость» и даже «искание измены» («Да чтоб они... Мои дочери... Да чтоб я... Из повиновенья-то выйти?») [Тургенев 1981, 177]. Мартын Харлов, как и Иван Грозный, поддается безудержной страсти, которая кристаллизовалась в невиданный «безмерный гнев» и превратила, по замечанию тургеневского рассказчика, человека в истинного зверя.
Весь спектр выделенных писателем в облике Ивана Грозного качеств реализуется на примере обыкновенного человека, что Тургеневу очень важно обозначить. Провинциальный помещик в результате оказывается типологически очень тонко сопоставим с царем из позднего русского Средневековья. И заданный в повести 1870 г. акцент на обыкновенность мира, в котором разворачивается достойная Шекспира драма, дважды звучит в «Заметке» о статуе Антокольского. Снова преодолевая статуарность образа, писатель размышляет о перспективе действия царя («он собирается встать»), и в этой переходности от «тяжкого раздумья» к его воплощению появляется новая характеристика Ивана Грозного: он «в одно и то же время и русский и царь» [Тургенев 1982, 260]. Обозначенная «русскость» – это указание на отнесенность овеянного легендами масштабного исторического образа к плану обыкновенного в его национальной принадлежности. Но здесь, в отличие от повести, конечно, не поэтическое возвышение через обращение к категории общечеловеческого, а, наоборот, развенчание монументальности. Вместе с царским достоинством в одной личности существует естественная простота, обычность в принадлежности к общему, теснящая ореол индивидуального величия народностью.
В повести Тургенев также прибег к категории народной памяти, предоставляя самим харловским крестьянам право дать оценку свершившейся на их глазах драме. И этот заключающий глас народа, своим звучанием перекликающийся с карамзинским, делает упор на сострадание, поскольку на первый план трагического изображения, как и у Шекспира, выходит общечеловеческое значение, истекающее из категории отцовства: король Лир и «державный» помещик Харлов перед подданными предстают прежде всего как жертвы несправедливости и неблагодарности.
«Заметка» о статуе Антокольского проводит, однако, несколько иные смыслы, поскольку для Ивана Грозного как исторической фигуры Тургенев не предполагает чистого сострадания, которое неизбежно послужило бы ему и некоторым оправданием. Вновь обращаясь к Шекспиру, он подчеркивает в обозначенном им сочетании «человек и царь» преимущество монаршей ипостаси: «царь с ног до головы – не хуже короля Лира» [Тургенев 1982, 260]. Писатель не просто ссылается на английскую трагедию, но цитирует слова пребывающего в забвении короля. Даже в беспамятстве Лир сознает собственное достоинство, хотя реализуется оно теперь только в его воображении. Точно так же Тургенев осмысляет «беззаветную власть» Ивана IV как что-то глубоко и трагически вросшее в самосознание царя и потому приводящее к неразрешимому противоречию: «И что он станет делать, как встанет? Пытать? Молиться? Или пытать и молиться?» [Тургенев 1982, 260]. Но именно такое неровное, но все-таки органичное сочетание «русского» и «царского» в статуе Антокольского позволяет писателю назвать всё изображение в целом «человечески живым», то есть обнаружить в нем психологическую живописность.
Чувственная выразительность запечатленного образа определяется Тургеневым еще одним важным признаком – «счастливым сочетанием домашнего, вседневного и трагического, значительного» [Тургенев 1982, 260]. С одной стороны, «домашнее» в облике царя связано с его одеянием: не пышное облачение с обязательным присутствием золота и драгоценностей, но простые одежды с намеком на монашеский аскетизм. В начальном описании Тургенев не случайно называет подрясник именно халатом, который «охвачен простым поясом». Для него важна не религиозная атрибутика как таковая, а то, что показывает царя в пространстве обыкновенного или, как он сам выражается, «вседневного». С другой стороны, разъятый мучительными противоречиями царь представлен у Антокольского в совершенно определенном нравственно-психологическом состоянии, выхвачен из жизни в самый момент ее протекания. Уже отмечалось, что писатель видит Ивана Грозного сидящим в отдаленных дворцовых покоях, и эта уединенность как часть вечного одиночества становится ярким знаком индивидуально-личного существования.
В тургеневском определении также имеет значение пушкинское «история домашним образом» . Перечисляя трех авторов – «Shakespeare, Гете, Walter Scott», – А.С. Пушкин объединяющую их особенность в изображении королей называет простотой «в буднях жизни», которая и величие делает привычным [Пушкин 1964, 529]. Очевидно, статуя Антокольского открывает Тургеневу похожее восприятие образа русского царя в русле «простых и ясных линий» [Тургенев 1986, 155]. Мастерство скульптора ко времени работы над образом Ивана IV уже успело ярко проявить себя в осмыслении бытовых сюжетов (например, горельефы «Еврей-портной» или «Скупой»). Но «искренняя правда, гармония и несомненность» [Тургенев 1982, 260] всего произведения Антокольского обретает полноту исключительно в контрасте, когда обыкновенное сталкивается с трагическим, конкретное соединяется с историческим. Именно подобный синтез писатель реализовал в своей повести, прочно сомкнув в одном образе простое и значительное, индивидуальное и всеобщее, сделав судьбу степного помещика пространством, в пределах которого разыгралась подлинная драма русской жизни.
Тургенев, заключая свою статью, настаивает на том, что скульптура Ивана Грозного должна непременно быть «исполненной из мрамора, так как мрамор гораздо способнее передать всю тонкость психологических черт и деталей» [Тургенев 1982, 261]. Этот материал античного искусства имел для писателя особую значимость, символизируя само художественное творчество, полное жизни, природы, правды и глубины. А именно отражение древнегреческой гармонии формы и содержания нашел Тургенев в изваянии царя. Не случайно он признается, что статуя ему «напоминает древних». Мраморное исполнение «Иван Грозный» получил в 1875 г. по заказу П.М. Третьякова, и в новом материале она достигла той вершины психологической достоверности, которой так желал писатель.
Таким образом, статуя Ивана Грозного, созданная Антокольским, стала для Тургенева своеобразным эстетическим зеркалом, в котором писатель увидел гармоничное воплощение своей собственной идеи. Скульптура объемно представила словесный рисунок человека, снаружи и изнутри объятого противоречиями, сила и способ проявления которых тесно связаны с шекспировской поэтикой. Поэтому специально написанная «Заметка», ставшая итогом тургеневской рефлексии над личностью русского царя, на самом деле имеет более сложный генезис и обнаруживает в своей жанровой природе эпическую основу. Экфрастический очерк о скульптуре [Пауткин 2018, 113] оказывается не простым описанием в публицистической форме, но продолжением художественной рефлексии с закреплением образно-смысловых акцентов.
Список литературы "...Не хуже короля Лира": статуя "Царь Иоанн Грозный" М.М. Антокольского в восприятии И.С. Тургенева
- Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 2. М.: АН СССР, 1953. 766 с.
- Варенцова Е.М. Вокруг И.С. Тургенева. Письма М.М. Антокольского Е.И. Апрелевой-Бларамберг // Спасский вестник. Тула: Лев Толстой, 2001. № 8. С. 135-147.
- Волков И.О. Уильям Шекспир в художественном мире И.С. Тургенева («Гамлет» и «Король Лир»). М.: ЯСК, 2022. 376 с.
- Заборов П.Р. И.С. Тургенев и западноевропейское изобразительное искусство // Русская литература и зарубежное искусство. Л.: Наука, 1986. С. 124-155.
- Карамзин Н.М. История государства Российского: в 12 т. Т. 9. СПб.: В тип. Н. Греча, 1821. 472 с.
- Кузнецова Э.В. М.М. Антокольский. Жизнь и творчество. М.: Искусство, 1989. 310 с.
- Лотман Л.М. А.Н. Островский и русская драматургия его времени. М.; Л.: АН СССР, 1961. 359 с.
- Марк Матвеевич Антокольский. Его жизнь, творения, письма и статьи / под ред. В.В. Стасова. СПб.; М.: Изд. Т-ва М.О. Вольф, 1905. 1046 с.
- Пауткин А.А. Искусство экфрасиса. Современная и классическая скульптура в оценке И.С. Тургенева // Stephanos. 2018. № 5(31). С. 111-115.
- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 7. М.: Наука, 1964. 765 с.
- Рубцова Н.С., Васильева Е.Н. «Триумф» Аси как воплощение рафаэлевского сюжета в повести И.С. Тургенева «Ася» // Вестник Удмуртского университета. Серия История и филология. 2019. Т. 29. № 5. С. 819-823.
- Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. М.: Наука, 1986. Т. 2. 623 с.
- Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. М.: Наука, 1988. Т. 5. 640 с.
- Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. М.: Наука, 1990. Т. 8. 413 с.
- Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. М.: Наука, 1994. Т. 10. 542 с.
- Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. М.: Наука, 1999. Т. 11. 614 с.
- Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 12 т. М.: Наука, 1981. Т. 8. 542 с.
- Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 12 т. М.: Наука, 1982. Т. 10. 607 с.