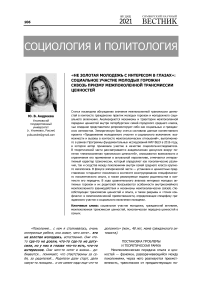«Не золотая молодежь с интересом в глазах»: социальное участие молодых горожан сквозь призму межпоколенной трансмиссии ценностей
Автор: Ю. В. Андреева
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Социология и политология
Статья в выпуске: 1 (43), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена обсуждению значения межпоколенной трансмиссии ценностей в контексте гражданских практик молодых горожан и молодежного социального включения. Анализируются механизмы и траектории межпоколенной передачи ценностей внутри петербургских семей городского среднего класса, чьи младшие представители репрезентируют себя как социальных и гражданских активистов. Эмпирическую базу статьи составили данные коллективного проекта «Продвижение молодежного участия и социального включения: возможности и вызовы в контексте межпоколенческих отношений», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2016 году, в котором автор принимала участие в качестве социолога-исследователя. В теоретической части рассматривается академическая дискуссия вокруг понятия «межпоколенная трансмиссия ценностей», описываются возможности и ограничения его применения в актуальной перспективе, отмечается интерактивный характер трансмиссии, который определяет как поколенческие различия, так и сходства между поколениями внутри семей среднего класса крупного мегаполиса. В фокусе эмпирической части — установки и ценностные представления «старшего» поколения в контексте конструирования специфического поколенческого опыта, а также реализуемые модели родительства в контексте его передачи. В ходе сравнительного анализа интервью молодых активных горожан и их родителей показываются особенности внутрисемейного межпоколенного взаимодействия и механизмы межпоколенческих связей, способствующих трансмиссии ценностей и опыта, а также разрывы и «точки конфликта» в межпоколенческой преемственности, определяющие специфику гражданского участия и социального включения молодежи
Социальное участие молодежи, гражданский активизм, межпоколенная трансмиссия ценностей, поколенческая передача ценностей в семьях.
Короткий адрес: https://sciup.org/14119693
IDR: 14119693
Текст научной статьи «Не золотая молодежь с интересом в глазах»: социальное участие молодых горожан сквозь призму межпоколенной трансмиссии ценностей
«Поколение… с кем я сталкивалась, очень интересные ребята, они знают, чего хотят… это не золотая молодежь, естественно. Они что-то где-то не доели, что-то где-то не доту-сили, но у них в глазах что-то есть, что-то интересное. Они чего-то хотят в жизни... добиваются… понимают, что ответственны за себя, за родителей… Родители дали старт, дали какую-то позицию... и им самим надо еще что-то доложить» (жен., 48 лет, мама гражданского активиста).
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАМКА
Межпоколенческая передача опыта и ценностей — феномен, разворачивающийся между поколениями, через него реализуется преемственность, трансмиссия от предшествующих по- колений потомкам как структурирующих, так и травматичных элементов (Тарабрина и др., 2013). В статье речь пойдет об особенностях вертикальной трансмиссии (Берри, 2007) ценностей и о межпоколенческой преемственности в фокусе перспектив социального участия, включения и гражданской активности молодого по-коления3. Вертикальная трансмиссия предполагает, что межпоколенческое взаимодействие происходит без специализированной организации и какого-то особого обучения. Тезис о том, что ценности внутри семей передаются от родителей (прародителей) детям с помощью разнообразия формальных и неформальных способов, конечно, не претендует на научную новизну. Но в фокусе статьи — именно анализ контекстов и смыслов этих способов. Воспитательная траектория внутри семьи, способ ее реализации основывается на ключевых установках (представлениях) доминирующего в социальном смысле поколения (Mannheim, 1964). Эти установки касаются того, как воспитывать детей, чему их научить и что важно передать следующему поколению. Отчасти осознаваемые и неосознанные представления внутрисемейных социализа-торов опираются на те способы воспитания, которые транслировались им самим их собственными родителями, бабушками и дедушками. Но разворачиваться (реализовываться) они могут в разных логиках: например, в имитационной («подражательной»), в идентификационной («усвоение родительских ценностей как своих собственных»), в компенсаторной («заместительной») или в логике отказа («избегания») от ценностей родителей и прародителей.
Социологи уже давно отмечают заметные ценностные трансформации на межпоколенном уровне: передача ценностей в семьях не всегда происходит традиционным способом — от родителей к детям, а зачастую имеет обратную направленность. Но речь не столько о префигура-тивных культурных практиках (Мид, 1988), когда родители учатся у детей, сколько о ценностном уровне в «обратной преемственности». То есть родители признают большую компетентность детей по ряду вопросов, и наряду с усвоением детьми базовых ценностей происходит и трансформация ценностной системы родителей (Дементьева, 2004). В основе этого лежат социальные, экономические и политические обстоятельства современного общества, которое принято описывать как «нестабильное», «общество переходного типа», «постсоветское» и т. д. В таких обстоятельствах перед старшими поколениями остро стоит проблема «что транслировать?» — читай «как воспитывать своих детей?», поскольку устоявшейся модели ценностей, выстроенных в определенной иерархии, нет.
ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ
Эмпирическую основу статьи составили результаты исследования социального включения и участия молодежи, выполненного в качественной парадигме. Эмпирической базой статьи стали данные коллективного проекта «Продвижение молодежного участия и социального включения: возможности и вызовы в контексте межпоколенческих отношений», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2016 году, в котором автор принимала участие в качестве социолога-исследователя. Использовался метод лейтмотивных интервью, охвативших три поколения петербургских семей: было проведено 30 интервью с молодыми активистами, включенными в разные сферы общественной жизни (в их числе оказались молодые экологи, волонтеры, гражданские активисты, градозащитники и т. д. («детское поколение»)), а также 35 лейтмотивных интервью с их родителями («родительское поколение»), дедушками и бабушками («поколение прародителей»). В рамках статьи использовались материалы лишь «серединного» («родительского») и «младшего» («детского») поколений. Возраст информантов-родителей составил 40—59 лет, информантов-детей — 16—28 лет.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Родительские установки и представления о том, как надо воспитывать, что важно передать
Изначально логика анализа родительских установок выстраивалась в соответствии с гипотезой: ценности, передаваемые в разных семьях, могут различаться и определять (задавать) тот вид активности, который впоследствии воспроизводится у поколения детей. То есть фокус анализа был направлен на выявление того, какие именно ценности передаются от родителей к детям, выросшим столь «чувствительными» к социальным проблемам и необходимости своего гражданского включения для их решения. Но очевидных различий между семьями обнаружить не удалось, заметны лишь отдельные ню- ансы, которые нельзя с полной уверенностью объяснить корреспондированностью содержания внутрисемейных ценностных трансляций и того вида активности, который воспроизводит молодое поколение в семьях. Поэтому можно предположить, что для понимания предпосылок проявлений гражданской активности у поколения детей всё-таки большую роль играют другие показатели. К примеру, ценностное наполнение поколенческой трансмиссии может в значительной степени зависеть от класса (социальной позиции) и реализуемого культурного стиля жизни.
Некоторые исследователи (Lareau, 2003, 2011) отмечали в свое время, что в семьях, принадлежащих к разным социальным средам, принят неодинаковый формат детско-родительских взаимодействий. Так, у родителей среднего класса с детьми принято регулярно разговаривать, обмениваться новостями, встречаться вне зависимости от того, насколько эта встреча является насущной. Тогда как в семьях рабочего класса общение с детьми выстроено исключительно по целевому принципу и в патерналистском стиле: родители больше указывают детям на то, что им нужно делать, они не оставляют шансов обсудить альтернативные варианты, не используют дополнительных доводов и не приводят аргументов. Проще говоря, в рабочих семьях не принят формат детско-родительского общения «встреча ради приятной беседы», лишь только «разговор по делу».
В связи с тем, что отбор семей для участия в исследовании осуществлялся по критерию со-циального/гражданского включения представителей «младшего поколения», выборку исследования составили главным образом выходцы из городского среднего класса. К тому же незапланированно оказалось, что и многие родители молодых активистов также в прошлом имели свой собственный активистский опыт. То есть информанты поколения родителей — это люди одного класса, общей среды, вероятно, отсюда ценностные сходства в контекстах и применяемых стратегиях воспитания этих семей, задающих гражданский вектор тем жизненным стилям, которые практикуют сегодня их дети. Действительно, для родительского поколения тема воспитания детей в интервью нарративно раскрывается как вполне осмысленная, не раз проговариваемая и обдумываемая. Также интересно, что социальный статус информантов-родителей позволяет им не сомневаться в своем «праве голоса» (Омельченко, Андреева, 2017). Редко кто соглашается с несостоятельностью собственных воспитательных усилий и утверждает, что «много информации в Интернете, они смотрят, сейчас учи не учи, дети все равно берут с улицы» (жен., 40 лет, поколение родителей).
Большинство осознают и проявляют активную жизненную позицию, и их роль в поколенческой трансмиссии отнюдь не пассивная. У них есть готовые ответы на вопрос, какие ценности им важно передать детям, при этом функцию поколенческого вклада они также готовы взять на себя. Родители видят свою роль в материальном обеспечении детей, но значительно больше — в культурном (символическом) вкладе в их воспитание. Лишь в отдельных историях кажется, что этот вклад носит вынужденный характер:
«…Мы смогли дать детям образование… Естественно, обеспечили детей жильем, это немаловажно. …Мы учили только добру, всему хорошему, а когда пришлось вытолкнуть их в большую жизнь, там оказалось очень сложно, но, в общем-то, они справились с нашей помощью. Ну вот я говорю, нам пришлось уехать для того, чтобы помочь им (сыновьям), пришлось там продать жилье, чтобы купить здесь... Где-то не скитаться по чужим квартирам. Это мы смогли, но не все это же могут… это вообще проблема нашего государства, причем самая большая проблема» (жен., 59 лет, поколение родителей).
«Я считаю, что ребенку, по возможности, (надо) открыть свободу горизонта, т. е. привить всевозможные навыки, вот какие… что можешь дать. Я вот немного была обижена на своих родителей за то, в советское время было не так принято… меня не водили ни по каким кружкам... то есть я не ходила ни на языковые, ни на творческие, рисование. То есть дочь, по возможности, я учила, на что хватило времени и сил. Я считаю, что это интеллектуально развивает человека… человек может понять, что ему близко, что ему нравится» (жен., 54 года, поколение родителей).
За этой вынужденностью, отчасти связанной с ожиданием государственной поддержки, с одной стороны, собственная семейная история и опыт, подвигший на воплощение индивидуальной воспитательной стратегии в компенсаторной логике, а с другой стороны — ностальгия по советскому детству, когда часть родительской ответственности за ребенка можно было переложить на формальные и неформальные общественные институты, в том числе на соседей:
«Им (родителям) некогда было за нами смотреть. Нас, наверное, воспитывала улица больше. Я знаю одно. Ну, представьте себе: женщина, трое детей. Она работает, у нее коровы, ну, как мама моя держала. Свиньи, хозяйство, у нее машинка «Волна», которая стирает вручную, где куча белья грязного. Воду нужно принести из колонки. Ведрами, тогда это было для детей? Нет, конечно. Там приходишь — мама, я есть хочу... — Вот там возьми в холодильнике молоко! Им даже варить есть некогда было» (жен., 59 лет, поколение родителей).
Почти во всех родительских нарративах воспроизводится либеральная модель семейного воспитания, т. е. между родителями и детьми предполагается выстраивание партнерских отношений. Почему же именно либеральная воспитательная схема оказалась наиболее транслируемой? На наш взгляд, это может быть также объяснено спецификой исследуемых семей (активные горожане среднего класса крупного мегаполиса) и теми реальными поведенческими практиками родительства, которые они воспроизводят в ответ доминирующим властным дискурсам о семье. Рассматривая четыре базовых мифа представлений о семье — «кризис», «золотой век семьи», «инструментализм» и «равные возможности», оказавших влияние на официальную семейную политику в России начиная с 2000 года, исследователи отмечают (Печерская, 2012), что все они отвечали двум противоположным запросам общества — либеральному и консервативному (в том числе и по отношению к содержанию семейных отношений). Но первые три мифа консолидировали неотради-ционалистскую парадигму семьи с ярко выраженным пронаталистским уклоном (в определенной мере нормализовав ее), а мифологема «равных возможностей», несмотря на то, что в какой-то мере «разбавила» дискурс, все-таки не привела к кардинальным его изменениям, так как в риторике по-прежнему сохранялась гендерная асимметрия во внутрисемейной сфере. Но это не отменяет наличия социального запроса некоторых групп на либеральный образец семьи или какие-то отдельные его элементы, в том числе и на организацию внутрисемейных отношений по принципу «равный — равному». Поэтому предположим, что в какой-то части (ребенок — родитель) элементы либеральной модели семьи могут воспроизводиться, а в какой-то, например, в отношениях между партнерами — не факт. Этот вывод, конечно, не претендует на всеобщность, тем не менее он отвечает на вопрос о том, почему, с одной стороны, репрезентируя характер своих внутрисемейных отношений, информанты воспроизводят либе- ральную риторику в отношениях с детьми, но одновременно показывают приоритет традиционных семейных ценностей.
Итак, родительские представления о собственных воспитательных стратегиях раскрываются в нескольких ключевых темах взаимоотношений с собственными детьми.
Первая — это важность налаженного детско-родительского диалога: с детьми надо говорить, говорить регулярно, проговаривать все, что может в будущем быть проблемой, нельзя запрещать, нужно разъяснять:
«Просто надо говорить, говорить, говорить, говорить, говорить. И тогда приходит какое-то общее понимание, чего она хочет… По крайней мере, сделать попытку, постоянную попытку сблизиться. Вот тогда получается, что мы можем договориться... Меня всегда интересовала внутренняя жизнь ребенка. Если мы вот читали с ней книгу, мы с ней обсуждали эту книгу. Если ей герой понравился…» (жен., 50 лет, поколение родителей).
Вторая тема нарративов — важность поддержки детей: их надо поддерживать всегда и во всем; родные, близкие, семья в целом должны стать основной опорой, защитой:
«Дочь я всегда поддерживаю. У меня такое убеждение, что детей надо всегда поддерживать. я могу как-то что-то спросить, посоветовать, или сказать, по каким-то опасениям, или дать какие-то советы, сказать, что вот так вот нельзя, это нельзя, иначе будет то-то, то-то, то-то, а так, вообще всегда поддерживаю, потому что это мой ребенок, а это его выбор» (жен., 54 года, поколение родителей).
«Я сына стараюсь, сколько могу поддерживаю, вот, а если, например, нет таких отношений с родителями, с братьями, сестрами там приятельских отношений, то одному тяжело в принципе» (жен., 42 года, поколение родителей).
Третья тема — сопоставимая с первой и второй — это тема доверия к своему ребенку: важно доверять, чтобы и он мог доверять тебе, не обещать того, чего не выполнишь, доверять, чтобы не ограничивать и помочь раскрыться:
«Очень боялась ее сломать… мы ей разрешали много что пробовать. И, наверно, вот себя преодолеть, чтобы не запрещать ребенку делать какие-то очень... По поводу: ребенок идет по высоченному буму, высоченному, метр. «Вы не боитесь?» Я говорю: «Боюсь». «Почему вы ей разрешаете?» Я говорю: «Ну так это я же боюсь, а ребенок хочет попробовать». Моя задача — ее подстраховать. Справиться с собст- венными страхами. Я давала ей руку всегда и говорила: «Ты всегда можешь на меня положиться». И она шла. Поэтому она, наверно, не боится пробовать что-то новое. Мне кажется, вот это качество мы привили с мужем. И муж тоже в этом отношении двигался, чтобы доверять ребенку» (жен., 50 лет, поколение родителей).
Четвертая тема — важность формирования самоотношения ребенка, его самооценки и уровня притязаний: детей надо хвалить, не жалеть на детей слов, не подавлять, поменьше контролировать, а если и делать это, то лучше всего так, чтобы ребенок это явно не наблюдал:
«Никогда я так жестко не ограничивала. Даже когда она была 15—16 лет, я проверяла, я карманы проверяла. Но она об этом никогда не знала и, я надеюсь, никогда не узнает. Как бы контроль был такой, чтобы дети об этом не знали, не слышали. Потому что я считаю, если мы ограничиваем детей в чем-то, они, наоборот, будут этого хотеть. Пытались разговаривать. С сыном сейчас. Мальчишки бегают, кто его знает, будут курить или еще чего-то хотеться. Начинаешь какие-то беседы. Сейчас начинаю какие-то беседы проводить с ним» (жен., 40 лет, поколение родителей).
Пятая тема, характеризующая либеральную воспитательную модель в нарративах информантов-родителей, — важно, чтобы семья научила ребенка быть счастливым:
«Что должна дать семья? Во-первых, ощущение защищенности, а во-вторых, она должна дать полную социализацию человеку, т. е. он должен учиться жить без тебя. Ну и конечно, что касается моральных качеств, для меня очень важно — это честность, иметь свое мнение, не попадать под влияние толпы и постараться быть счастливым. То есть мне не важно, кем ты будешь работать, карьера там, мне самое главное, счастлив ты или нет, мне не важно, даже если ты дворник или в кочегарке, в подсобке — ты просто должен быть счастлив» (жен., 42 года, поколение родителей).
Конечно, проговариваемые установки и представления у родителей можно назвать отчасти идеализированными и рассматривать их как особый репрезентативный способ говорить о своих отношениях с собственными детьми. Глубинные ценностные смыслы (мировоззренческие детерминанты, в том числе трансляция ценностей, связанных с общественными идеалами) не прочитываются в таком «назывном порядке», поэтому дальше постараемся описать общие ценностные тенденции, которые, отталкиваясь от контекста родительских интервью, являются значимыми для самих родителей. И они, соответственно, это то, что прямым или косвенным образом, не всегда проговаривая и акцентируя, родители транслируют своим детям.
Из контекстов интервью становится ясно, что доминирующими являются все же коллективистские, а не индивидуалистические тенденции, а также ценности консолидации. Они прочитываются в нарративах как бы между строк, не артикулируемыми «посылами»: «надо дружить со всеми, со всеми доброжелательно общаться, чтобы тебе могли помочь, оказать поддержку», «надо помогать всем, проявлять заботу, делиться тем немногим, что у тебя есть», «нельзя подвести людей, оказавших тебе доверие», «надо быть ответственным» и т. д. Части наших информантов из поколения родителей ближе скорее традиционалистские ценности (мамы и бабушки переживают за дочерей с «неустроенной личной жизнью», стараются аргументированно представить пользу «одного брака на всю жизнь», говорят о важности традиционного воспитания «в девочках женственности, а в мальчиках — мужественности» и т. д.), нежели альтернативные. Но встречаются и обратные случаи, причем во многом на ценностные ориентации родителей оказали влияние именно дети, их взгляды и выбор. Также особо подчеркивается, а в отдельных интервью даже внятно артикулируется ценность свободы:
«Я старался детям внушить вот эту любовь к свободе тоже… я их не сажал: «Девочки, запомните»… мне всегда казалось важным, чтобы у ребенка было свое мнение, чтобы он это мнение мог отстоять при необходимости. Не знаю, как объяснить. Ребенок хочет полизать железную ручку, да? Есть два варианта, да? Дать по башке или есть вариант сесть и обсудить это дело, и объяснить, что это твое дело, пожалуйста. Вот ты свободный человек, реально, хочешь, иди и лижи. Ну, это я хочу объяснить, какие могут быть последствия, да? То есть мне всегда казалось, мне кажется, что я пытался детям дать вот эту, вырастить из них людей, которые имеют право на решение, которые свободны, которые имеют собственное мнение. И его добиваются» (муж., 50 лет, поколение родителей).
Но обратная сторона свободы, озвучиваемая во многих родительских нарративах, — это непременное принятие своей ответственности. На ней особенно акцентирует свое внимание родительское поколение, считая важным качеством, которое они хотели бы видеть в своих детях:
«Сейчас я смотрю вокруг, идет такое направление, что человек должен наслаждаться, постоянно все удовольствия, это стремление, погоня за удовольствием... т. е. ответственность, я считаю, это очень важно» (жен., 55 лет, поколение родителей).
Актуализация темы свободы и ответственности в родительских нарративах связана, на наш взгляд, с проживанием современными родителями исторических событий конца 80-х — начала 90-х гг. XX века. Это период, на который пришлась их активная социализация, а распад СССР оказался значимым историческим событием, повлиявшим на становление их поколенческой идентичности, зарождаемой в пространстве дискурсов о свободе и новых рыночных отношениях. Но тогда их социальные потенции так и остались нереализованными, «ветер перемен» принес главным образом разочарования в новой постсоветской действительности, которая уже с начала 2000-х стала постепенно откатываться назад. Так «советский традиционализм» постепенно становился «новым российским консерватизмом». Потому отчасти в родительском поколении их сегодняшнее восприятие собственной гражданской и социальной активности (и в прошлом, и нынешней) проблематизиру-ется. Они критически подходят к оценке своего собственного вклада в так и не состоявшееся «светлое будущее» и вне зависимости от видов и форм, которые принимает их активизм, склонны оценивать его как некую имитацию чего-то подлинно полезного в социальном смысле. Одновременно тема свободы осталась и продолжает транслироваться в родительских нарративах как своеобразный поколенческий атрибут.
Форматы межпоколенческой преемственности: траектории и механизмы усвоения опыта
Усвоение опыта и его последующее воспроизведение — тонкий и сложный процесс. Не останавливаясь подробно на его психологических аспектах, отметим, что в детско-родительском контексте он носит непрямой характер, в отличие от прямого, когда усвоение опыта организовано через специализированные институты (школы, вузы). То есть в русле детско-родительских отношений личность обучается на практике у окружающих, у взрослых родственников (через подражание, деятельность по образцу и т. д.). В нарративах информантов-родителей это также нашло свое отражение:
«Специально я не рассказывал (о своей активистской деятельности в прошлом), но, с другой стороны, и не скрывал. Поэтому, наверно, когда ребенок в нашей среде, значит, растет, ездит там с нами в какие-то загородные лагеря и т. д., значит, он это впитывает... Он с какого-то момента стал себя ощущать самостоятельным... Но я не помню какого-то такого, что называется, ключевого разговора. Его не было. Просто было все естественно» (муж., 55 лет, поколение родителей).
Основным механизмом межпоколенческой преемственности являются разделяемые практики, участие в общем, совместном деле. В нарративах поколения родителей достаточно часто встречаются упоминания о том, что они делают вместе со своими детьми. Также в родительских представлениях об идеальных воспитательных моделях (обязательный диалог, поддержка, доверие, формирование позитивного самоотноше-ния у ребенка и установки на счастье), рассмотренных выше, несколько раз можно было встретить подчеркивание важности совместного времяпрепровождения: прогулок, походов в культурные места, поездок, просмотра передач и чтения книг для воспитания ребенка:
«Сама и разговаривала (с сыном), и были случаи, когда ходили и в лес, когда огороды — были тоже вместе, тоже у меня мальчикам надо туда-то поехать — мы вместе садились — ехали в компании, даже с ребятами ходили… и в футбол играли, это же все, все интересно» (жен., 46 лет, поколение родителей).
Но особо стоит отметить значение для межпоколенческой преемственности разделяемых практик, имеющих отношение к проявлениям гражданского активизма и у родителей, и у детей. Интересно, что политические взгляды и установки заметнее всего передаются в семьях с открытой коммуникативной культурой. Например, в семьях, где граждански активны и родители, и дети, регулярно принято разговаривать и обмениваться новостями, в детско-родительских отношениях нормой считается проявлять уважение к разным политическим взглядам, дети и родители даже ходят вместе на политические мероприятия:
«Два года назад, когда все в истерике бились по поводу того, что надо идти Украину всю вырезать, бандеровскую, значит, мы с (называет имя дочери. — Ю. А.) ходили на митинг антивоенный на Исаакиевскую» (муж., 50 лет, поколение родителей).
Но еще больше усвоению опыта способствует не просто разделяемая активистская практика, но и совместно организованное социально полезное дело:
«Все ходили вот это выборы… вот кто там участвовал на выборах, и наш сын тоже был на- блюдателем. И мы как-то за ним очень следили, и всё было на подъёме, а потом это всё схлопнулось, да? И всё, и закрылось, а темперамент остался. Вот мы все, кто были наблюдатели, стали думать, куда бы себя деть, куда бы себя приложить, потому что политическая деятельность схлопнулась. И придумали, что давайте мы сделаем проект. Вот просто «Дети мигрантов», это вот он вырос из проекта «Наблюдатели Петербурга», а потом мы просто откололись… Следующий этап был: «Давайте может, попробуем, вот ещё есть такое: дети мигрантов по улицам ходят, давайте им поможем?», это в точности было продолжение политики» (жен., 48 лет, поколение родителей).
Общее дело, приносящее определенную социальную пользу, способствует тому, что даже травматичный родительский опыт имеет шанс усвоиться и переработаться детьми в непроблемном ключе, что в свою очередь может стать ресурсом для детской активности:
«…История отчасти типичная для моего поколения… типичность в том, что в возрасте 17лет... конец 70-х годов. Такой расцвет застоя в глухое время. Значит, характерной чертой которого был так называемый государственный антисемитизм, в частности, проявляющийся в ограничениях на получение высшего образования… мое национальное самосознание травматично. Оно основано на травме, полученной в возрасте 17 лет, когда я, значит, лбом уткнулся в государственный антисемитизм (информанта не приняли в институт по причине национальности. — Ю. А.). То есть это... некая проблема, что самосознание твердое, только оно, так сказать, негативное. Оно основано на негативном опыте. У моего сына такого… непосредственно негативного опыта нет. Значит, зато у него есть позитивный опыт. У него позитивный опыт в том, что он участвовал в каких-то еврейских мероприятиях, праздниках, мы организовывали большие фестивали клезмерской музыки… у него есть, значит, очень твердое национальное самосознание… и это важно, что его национальное самосознание позитивно, в отличие от национального самосознания моего поколения, также и предшествующего поколения, которое в значительной степени было негативно» (муж., 55 лет, поколение родителей).
«Обратная трансмиссия»: темы и пространства, в которых родители конструируют себя как некомпетентных
Выше уже было упомянуто, что трансмиссия в семьях может иметь и обратную направлен- ность, т. е. дети, наряду с усваиваемыми родительскими ценностями, в свою очередь транслируют им те, которые актуальны для них самих. Результаты исследования показывают, что родители достаточно лояльно относятся к такому положению дел в случае, когда детско-родительские отношения выстраиваются по принципам открытой коммуникации. В родительских нарративах их дети выступают, например, проводниками либеральных ценностей:
«Вот, например, с младшей, вот у нас старшая дочка, она, предположим, она более патриотично настроена, т. е. она такая более консервативная, жестких правил, патриот, вот такая. А младшая, она же вообще либерал, крайний, да. Я, например, я ей благодарен за что в том числе? За то, что она меня, например, научила гораздо большей терпимости. То есть там ещё лет десять назад я, наверное, был даже расист и гомофоб, в какой-то степени. Ну, не то, что там абсолютный, да? Ну, такой бытовой… Как основная масса населения нашей страны, скрытые. Вот её влияние: например, я стал по-другому на эти вещи смотреть благодаря ей. То есть вот она у нас крайний левый, вот старшая, там может, крайний правый. А вот я где-то уже ближе к центру. Вот я такой… То есть при том, что в разные периоды жизни, например, у меня были другие взгляды, там и у жены были другие взгляды. Сейчас вот как-то все потихонечку дрейфуем в одну сторону. Потому что общаемся, обмениваемся там, перевариваем, мы обсуждаем такие вещи. Выслушиваем друг друга, стараемся выслушивать, по крайней мере, в семье-то да» (муж., 50 лет, поколение родителей).
Интересно, что в интервью встречались лишь случаи, когда дети выступали проводниками именно либеральных идей для своих родителей, а, например, не консервативно-патриотических. Возможно, отчасти это связано именно с практикуемым их родителями либеральным стилем воспитания, даже несмотря на доминирование в семьях неотрадиционалистских взглядов на общественное устройство.
Также дети могут транслировать определенный жизненный стиль своим родителям, например, идею веганства:
«Наверное, она (дочь) меня подталкивала, чем я ее. У меня такое впечатление, что меня вот эти вещи заинтересовали (потому что. — Ю. А.), она этим занималась. С другой стороны, мне кажется, ей кажется хорошо и правильно, что у нее папа занимается такими вещами. Это действует как взаимная поддержка. Не то, что кто-то на кого-то посмотрел. А дело в том, что произвели поддержку, что для дочери важно, что я ее поддерживаю, что я согласен с тем, что она не какой-то ерундой занимается, а делает что-то полезное. И для меня важно, что дочери кажется это хорошо и правильно. Ну, как-то так» (муж., 45 лет, поколение родителей).
Обратная трансмиссия имеет место быть и когда речь заходит не только о ценностях и стиле жизни, но и о практиках:
«Интервьюер: Электронной почтой пользуетесь как бы по старинке, что называется, с сайта..?
Респондент: …С сайта. С сайта. Нет, у меня, понятно, смартфон, в котором есть там это самое, ну (приложение). Но так по-серьезному я просто с сайта в Интернете. Вот я сейчас подписан на Телеграм, ну, потому что это, значит, моего сына, значит, такое активное средство взаимодействия с сыном. И заодно там с женой тоже. Ну, это, значит, вот Телеграм. Такая популярная штука. Мне сын сказал — вот Телеграм — это вещь. Ну, я понимаю, что, если я буду в Телеграме, он мне ответит.
Интервьюер: В плане гаджетов и Интернета к сыну обращаетесь за помощью по этому вопросу?
Респондент: Да, да, да. Постоянно. Естественно... Во-первых, я не настолько продвинутый. Потом, опять-таки это же время. Потому что если я сяду и буду долго разбираться, я, в конце концов, разберусь. Но мне проще обратиться к сыну, который мне тут же решит любую проблему» (муж., 55 лет, поколение родителей).
В том числе и о практиках социального активизма, о чем говорит, например, отец активистки и писатель:
«Интервьюер: А как вы начали писать? Заниматься творчеством?
Респондент: А это дочкам спасибо, только им. Вот С. у нас младшая, а есть у нас старшая сестра К., вот и был момент, я работал на заводе вот директором, а К. у меня помощником работала. И тогда Интернет же еще для меня был, она меня научила пользоваться Интернетом. И я начал там читать всякие рассказики, был такой ресурс (называет. — Ю. А.), сейчас полное дерьмо, я вам не рекомендую, а когда-то он был очень интересным, во времена албанского языка» (муж., 50 лет, поколение родителей).
При этом интересно, что многие информанты родительского поколения не интерпретируют свою гражданскую активность, общественные социальные практики как активность в принципе и в нарративах конструируют себя как социально неактивных. Так, например, мама блоге- ра-активистки, которая и сама ведет группу, и достаточно активна в социальной сети, уверена, что поколение современной молодежи «уже в 11 лет знают… что я в 25 не знала» (жен., 50 лет, поколение родителей). Возможно, это связано с различиями в восприятии родителями собственных активностей и особенностями оценки их социальной пользы.
Разрывы в межпоколенческой преемственности в контексте обратной ценностной трансмиссии от детей — к родителям
Что касается разрывов в преемственности опыта, неповторяемости его воспроизведения в поколении детей, то пока сложно с определенностью утверждать их природу. Во-первых, их достаточно сложно зафиксировать в контексте интервью. Чаще всего это непроговариваемые темы и замалчиваемые случаи, потому что, как правило, во время интервью респонденты склонны к бесконфликтному самоконструирова-нию. Во-вторых, пока можно лишь конструиро-ванно оформить несколько очевидных эпизодов детско-родительских разрывов, которые были связаны прежде всего с практикуемыми стилями жизни. Потому что лишь по отдельным упоминаниям из интервью, например, с членами одной семьи, сопоставив нарративы, полученные у представителей и родительского, и детского поколения (связанные с описанием состава семьи, устройством их быта и повседневными практиками каждого ее члена), спроецировав их рассказы один на другой и на тот тип активности, который реализует информант из когорты молодых активистов, можно предположить, с чем именно может быть связан этот разрыв в преемственности опыта.
Первый эпизод разрыва межпоколенческой преемственности (от матери — к дочери) касается того, что старшая дочь категорично отказывается воспроизводить жизненные ценности, транслируемые остальными членами ее семьи (включая мать, 17-летнюю сестру и отчима). Девушка даже выкупила комнату в их общей квартире и ведет отдельное домохозяйство с тем, чтобы минимизировать «неприемлемую ценностную трансляцию». Но при этом в интервью ни девушка, ни ее мама не говорят об устройстве своей жизни в проблемном ключе. Мама воспроизводит это чаще в русле именно политических ссор, а не стилевых (ценностных) различий:
«Респондент: Я мало обсуждаю (с дочерью. — Ю. А.), потому что вижу бессмысленность этих обсуждений, мы начинаем ссорить- ся, ругаться, каждый говорит то, что он думает, в итоге ни к чему хорошему это не приводит… О политике вообще не люблю говорить, не люблю слушать, когда говорят, потому что на самом деле это всё — сотрясание просто воздуха, мы вряд ли что-то можем изменить в этой системе. Кто-то просто в розовых очках не задумывается ни о чём, и когда вдруг ему что-то начинают говорить, он делает большие глаза и обижается.
Интервьюер: Но если в семье происходит это обсуждение, то кто участвует в дискуссиях?
Респондент: Моя старшая дочь… старшая дочка что-то такое высказывает, К. иногда, мой мужчина, с которым я живу. Я не очень участвую в таких беседах» (жен., 44 года, поколение родителей).
В этой семье у дочери в какой-то мере получается транслировать свои принципы и стиль жизни маме (это может быть и обоюдный процесс): кроме договорных отношений совместного проживания, к примеру, в интервью мама упоминает, что свой телевизор она уже выкинула и, несмотря на то, что идейной вегетарианкой, как ее старшая дочь, не является, она вполне может есть и вегетарианскую пищу. На вопрос о том, что же семья должна дать ребенку, по ее мнению, женщина отвечает, имея в виду обеих своих дочерей:
«Научить ребёнка самостоятельности, отсутствию страха высказать своё мнение. Просто направлять его, не мешать человеку развиваться, поддерживать, когда нужно... нельзя ограничивать свободу ребёнка. То есть он — свободная личность, он думает, он чувствует, он что-то знает лучше тебя. Тревожность особенная тоже вредит ребёнку, если в семье присутствует такая тревожность. Каждые 5 минут нужно отзваниваться или ещё что-то. У нас такого нет. Я свободно отпускаю. Я понимаю, что если он мне не отзвонился, я всё равно ничего сделать не смогу Если что-то уже произошло, значит произошло» (жен., 44 года, поколение родителей).
Потому в данном эпизоде межпоколенческой преемственности трансмиссия имеет скорее обратный характер.
Второй эпизод также может служить примером, с одной стороны, демонстрирующим межпоколенческий разрыв в усвоении опыта, передаваемого от отца к дочери, но с другой — показывающим, как происходит обратная ценностная трансмиссия: от дочери — к матери. Так, девушка-волонтер одного из детских благотворительных фондов достаточно подробно рассказывает о своих общих с мамой активистских и не только интересах и разделяемых практиках:
«Респондент: Ну, так она (мама) занимается, она тоже вместе со мной в фонде, занимается йогой, ходит, всякие лекции слушает вместе со мной. В общем, с мамой весело.
Интервьюер: А кто раньше начал?
Респондент: Я не знаю, мне кажется, это на самом деле такой довольно одновременный процесс прошёл, и это довольно забавно, потому что мама, в прямом смысле, лучшая подруга. То есть мы читаем одинаковые книги, мы скидываем друг другу посты ВКонтакте про лекции, на которые мы хотим попасть, стоим вместе на акциях, в общем, слишком хорошо, чтобы быть правдой (смеётся). Я очень довольна, просто благословляю эти отношения каждый день.
Интервьюер: Ну, это здорово. Просто не все хотят, например, проникновения такого сильного родителей в свою жизнь.
Респондент: Да, ну, я не знаю, как-то так с мамой случайно вышло. У нас куча общих знакомых, т. е. плюс за счёт того, что мы вместе ходим на ту же йогу, да, у нас есть общие знакомые, с фонда общие знакомые и, в общем, отовсюду» (жен., 20 лет, детское поколение, волонтер).
Мама девушки говорит, что это именно дочь подтолкнула ее заняться тем же, чем и она сама, проявив инициативу:
«А в N [название организации] как бы я давно о ней знала, потому что они часто проводят в театрах, у них на площадках. Вот у них стоит растяжка, т. е. достаточно известный фонд. Ну, кстати, старшая дочка просто пошла первой» (жен., 43 года, поколение родителей).
Если с матерью они являются единомышленниками и подругами, то с отцом у девушки отношения не складываются. Предметом конфликта служит разница во взглядах на практикуемый стиль жизни, который порой переводится в плоскость политических противоречий:
«Папа работает, у него свой небольшой бизнес. С папой сложнее, тут как-то гораздо меньше общих тем, вообще их почти нет, и общих взглядов, и это вызывает некоторые конфликты. Ну, и политические взгляды очень разные, и йога ему не нравится, и очень не нравится, что мы с мамой этим занимаемся… Плюс мы с мамой вегетарианки, и это тоже было просто огромнейшее поле для постоянных ссор. Что там? Ну, как бы, в общем, всё, всё, всё на самом деле довольно острое… Я хочу уехать, поступать в магистратуру за границу, во Францию, надеюсь, и в перспективе остаться жить там. А папа говорит, что стабильность — это хорошо и вот как бы… плюс вот мы родились в этой стране, и мы должны быть ей за это благодарны, я не очень понимаю почему, кому собственно должна быть благодарна? Как должна выражаться моя благодарность стране? В дачах, которые мы строим чиновникам (смеётся)? Ну, и это, следовательно, такая острая тема» (жен., 20 лет, детское поколение, волонтер).
Таким образом, разрывы в межпоколенческой преемственности в какой-то мере могут компенсироваться обратной ценностной трансмиссией стилей и взглядов от детей — к родителям.
ВЫВОДЫ
Сегодня вектор внутрисемейной трансмиссии ценностей гражданского участия и социального включения может быть направлен не только от родителей к детям, но и, наоборот, от детей — к родителям, а складывающиеся внутрисемейные взаимодействия и особенности межпоколенческих связей являются одним из ключевых ресурсов социального, гражданского участия как для молодежи, так и для поколения родителей. Ключевые родительские установки, распространенные внутри «серединного поколения» городского среднего класса и касающиеся выстраивания детско-родительских отношений, отвечают либеральной модели родительства (с ребенком надо разговаривать, доверять ему, поддерживать, а не давить, важно формировать позитивное самоотношение у ребенка, научить его быть счастливым). Интересно, что трансляция либеральной модели родительства происходит даже при сохранении в семьях не-отрадиционалистских взглядов на общественное устройство и наблюдаемую гендерную асимметрию внутри семей.
Родительский нарратив о воспитании, транслируемых ценностях и в целом о том, каким должен быть их символический поколенче- ский вклад, вполне осмысленен. Вместе с тем, с одной стороны, родительские установки идеализированы: с ребенком нужен диалог, нельзя ограничивать его свободу, ему нужно доверять формировать адекватное самоощущение и т. д., но, с другой стороны, глубинные ценностные смыслы указывают на приоритеты коллективистских, консолидирующих и солидарных ценностных тенденций. Ключевой ценностной темой в родительских нарративах является тема приоритета свободы и готовности к ответственности за нее.
Основным механизмом межпоколенческой преемственности в детско-родительской коммуникации выступают разделяемые практики родителей молодых гражданских активистов и их самих. Это способствует непроблемному усвоению опыта даже в случае его травматичного наполнения. Разделяемые активистские практики и поддержание общих гражданских инициатив трансформирует вертикальный детско-родительский вектор трансмиссии в горизонталь социальных связей и отношений. В обратной трансмиссии в нарративах проблематизирован ряд тем и пространств, где родители конструируют себя как некомпетентных. Отчасти такая проблематизация связана с обращением родительского и прародительского поколений к своему «советскому прошлому» и восприятием собственной гражданской и социальной инициативы как имитации «по-настоящему полезного» в социальном смысле.
Внутрисемейная преемственность и важность для родителей опыта молодого поколения может быть объяснена совместной мотивацией к поддержанию открытой коммуникации, а также тем, что сегодня сфера социальной, гражданской активности включает в себя значительное число онлайн-пространств и требует освоения новых технологий, оперирование которыми вызывает у поколения родителей определенные трудности.
Список литературы «Не золотая молодежь с интересом в глазах»: социальное участие молодых горожан сквозь призму межпоколенной трансмиссии ценностей
- Кросс-культурная психология / Д. В. Берри, А. Х. Пуртинга, М. Х. Сигалл, П. Р. Дасен. — Харьков : Изд-во «Гуманитарный центр», 2007. — 560 с.
- Дементьева И. Ф. Трансформация ценностных ориентаций в современной российской семье / И. Ф. Дементьева // Вестник РУДН. Серия Социология. — 2004. — № 6—7. — С. 150—160.
- Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения / М. Мид ; пep. с англ. и комментарии Ю. А. Асеева ; сост. и послесл. И. С. Кона. — М. : Наука, 1988. — 429 с.
- Омельченко Е. Л. Что остается в семейной истории: память о советском сквозь разговор трех поколений / Е. Л. Омельченко, Ю. В. Андреева // Социологические исследования. — 2017. — № 11. — С. 147—156. — DOI: 10.7868/S0132162517110162.
- Печерская Н. В. Мифология родительства: анализ дискурсивного производства идеальной семьи / Н. В. Печерская // Журнал исследований социальной политики. — 2012. — Т. 10, № 3. — С. 323—342.
- Тарабрина Н. В. Феномен межпоколенческой передачи психической травмы (по материалам зарубежной литературы) / Н. В. Тарабрина, Н. В. Майн // Консультативная психология и психотерапия. — 2013. — № 3. — С. 96—119.
- Lareau A. Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life. Berkeley: University of California Press, 2003.
- Lareau A. Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life, 2nd Edition with an Update a Decade Later. Berkeley: University of California Press, 2011.
- Mannheim K. Das Problem der Generationen / Wissenssoziologie. Auswahl aus dem Werk, hg. v. Kurt H. Wolff, Berlin und Neuwied, 1964.