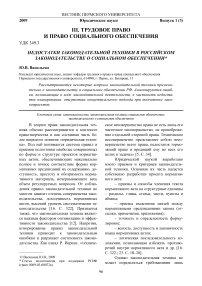Недостатки законодательной техники в российском законодательстве о социальном обеспечении
Автор: Васильева Ю.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Трудовое право и право социального обеспечения
Статья в выпуске: 1 (3), 2009 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются некоторые вопросы законодательной техники применительно к законодательству о социальном обеспечении РФ. Анализируются ошибки, возникающие в ходе законодательной деятельности, в частности недостаток планирования, отсутствие концептуального подхода при подготовке законопроектов.
Законодательство, законодательная техника, социальное обеспечение, законодательство о социальном обеспечении
Короткий адрес: https://sciup.org/147201826
IDR: 147201826
Текст научной статьи Недостатки законодательной техники в российском законодательстве о социальном обеспечении
В теории права законодательная техника обычно рассматривается в контексте правотворчества и как составная часть более широкого понятия «юридическая техника». Под ней понимается система правил и приемов подготовки наиболее совершенных по форме и структуре проектов нормативных актов, обеспечивающих максимально полное и точное соответствие формы нормативных предписаний их содержанию, доступность, простоту и обозримость нормативного материала, исчерпывающего весь объем регулируемых вопросов. От соблюдения правил законодательной техники во многом зависит степень совершенства законодательства, доходчивость нормативных актов, высокий уровень систематизации законодательства [16. С. 322]. Признается также, что законодательная техника является важным фактором оптимизации и эффективности законодательства [12]. Напротив, игнорирование правил законодательной техники приводит к законодательным ошибкам и разрушает системность законодательства. Как писал Р. Иеринг, «техниче-
ское несовершенство права не есть лишь его частичное несовершенство, не пренебрежение отдельной стороной права. Техническое несовершенство представляет собою несовершенство всего права, недостаток тормозящий право и вредящий ему во всех его целях и задачах» [5. С. 34].
Юридической наукой выработано много приемов и критериев законодательной техники. Основная их часть касается собственно разработки проекта нормативного акта:
– приемы и способы членения текста нормативного акта на структурные единицы – разделы, главы, статьи, части, пункты и абзацы;
– приемы выделения связей между нормативными предписаниями закона (отсылки, примечания, приложения);
– точность и определенность формулировок;
– ясность, доступность и лаконичность языка нормативных актов;
– логическая последовательность изложения, позволяющая избежать противоречий внутри нормативного акта и др. [16. С. 322.; 23. С. 18–20].
Однако законодательная техника не может определяться требованиями лишь одного проектируемого закона. Для того чтобы подготовить не только научно обоснованные, но и эффективно действующие законы, необходимо, чтобы они «вписались» в систему действующих правовых нормативных актов. Здесь приемы законодательной техники, помимо внутренней непротиворечивой структуры закона, должны учитывать потребности всей системы законодательства. В данном случае можно вести речь:
-
– о планировании законодательной деятельности;
-
– закреплении в тексте акта связей между проектируемыми и действующими нормами права;
-
– сокращении количества актов по одному и тому же вопросу в интересах лучшей обозримости нормативного материала, облегчения пользования им;
-
– укрупнении нормативных актов и т.п. [16. С. 322].
Особым приемом законодательной техники является систематизация законодательства, включая ее наивысшую форму – кодификацию. Количественное и качественное упрощение права, которое происходит при этом, дает возможность избежать многих ошибок в законотворчестве и в процессе применения права.
Российское законодательство о социальном обеспечении технически пока небезупречно. Но идущий процесс демократизации общественной жизни позволяет надеяться на создание более совершенных способов и приемов (т.е. техники) отражения в законодательстве общественных потребностей. Ведь более высокая организация общества, на которую нацелены проводимые социальные и правовые реформы, обусловливает повышение требований к техническому качеству закона [12. С. 75].
Качество законодательства изначально зависит от правильного планирования законодательного, или, в более широком понимании, правотворческого процесса. В сфере социального обеспечения правотворчество зачастую имеет идеализированный, политизированный и «заполошный» характер. Уже никого не удивляет, что социальные законы принимаются для решения безотлагательных задач, снятия социальной напряженности, в период предвыборных кампаний. При этом не просчитываются последствия, не оцениваются результаты. Какая-либо четкая программа законопроектных работ в этой сфере до сих пор отсутствует. В результате принятые законы декларативны, фрагментарны, не способны гарантировать права человека на социальное обеспечение.
Методом проб и ошибок ведутся поиски решений таких важнейших проблем, как разграничение полномочий между уровнями публичной власти в социальной сфере, вывод из кризиса пенсионной системы, регулирование процесса «монетизации» льгот. В результате нерешенности этих проблем не принимаются необходимые законы, а многие принятые законы невозможно эффективно применять. Примеров этому достаточно. Понадобилось несколько лет и решение Конституционного суда РФ [13], чтобы был принят закон, позволяющий «военным пенсионерам», работавшим по трудовому договору, получать наряду с пенсией по государственному пенсионному обеспечению трудовую пенсию. Три с половиной года ожидали застрахованные лица с 1953–1957 гг. по 1966 г. рождения (соответственно мужчины и женщины), лишенные в 2005 г. права на формирование накопительной части пенсии, возможности добровольно участвовать в этом процессе [25]. До сих пор не принят Федеральный закон, который должен установить ожидаемый период выплаты трудовой пенсии, применяемый для расчета накопительной части трудовой пенсии в соответствии с п. 9 ст. 14 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. №173 «О трудовых пенсиях в РФ» [20]. В связи с этим накопительная часть трудовой пенсии по старости до сих пор никому не назначена и не выплачивается, хотя число застрахованных лиц, имеющих право на ее получение, год от года растет. Не приняты законы о профессиональных пенсионных системах, об управлении средствами государственного пенсионного страхования (обеспечения) и др.
Действующее законодательство о социальном обеспечении в высшей степени нестабильно. Оно все более превращается в нагромождение бесчисленных изменений, не устраняющих пробелы и создающих противоречия. Нестабильность законодательства порой принимает гипертрофированные формы. Широко известный Федеральный закон №122 от 22 августа 2004 г. [24], который внес изменения в 152 законодательных акта, а 112 законов признал утратившими силу полностью или частично, уже сам претерпел изменения более двадцати раз. Причем внесение изменений началось еще до вступления Закона №122 в силу. В ноябре-декабре 2004 г. было принято пять федеральных законов1, которыми признавались утратившими силу те или иные статьи и части статей Закона №122. Но затем и эти законы были изменены. Путаница возникает даже в номерах и названиях приведенных актов, не говоря уже о проблемах поиска в многостраничных текстах действующей формулировки нужной нормы. А поскольку актуальные редакции нормативных актов, а равно и перечни актов, утративших юридическую силу, публикуются крайне редко (что также является нарушением правил юридической техники), правоприменитель становится заложником информационных поисковых систем и компетентности их операторов [15. С. 314].
Все это в конечном счете недопустимо затягивает создание необходимых правовых условий для устойчивого развития общества и государства, отдаляет перспективы формирования в России реальных основ социального государства и еще раз убеждает в необходимости планирования законопроектной деятельности, по меньшей мере, на общефедеральном уровне. По мнению председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ С.М. Миронова, стране нужен концептуальный документ, позволяющий ежегодно оценивать приоритеты, содержание и объемы законопроектной деятельно- сти [4. С. 6]. По-видимому, такой концептуальный документ должен охватывать материалы, позволяющие решать не только общеправовые задачи, стоящие перед федеральным законодателем, но и более частные, требующие своего развития применительно к конкретным областям общественной жизни, в том числе к сфере права социального обеспечения. Возможность принятия аналогичных документов следует рассмотреть и в субъектах РФ.
О необходимости концептуального подхода к законотворчеству в последнее время говорится достаточно много в научных и в парламентских кругах [1; 3. С. 611– 649; 7] и даже предпринимаются попытки практической реализации концептуального подхода при реформировании социальных отношений [8]. Но в целом концепция законопроекта, как и концепция развития законодательства, остается для российского законодателя пока лишь ориентиром и используется явно недостаточно. Вместе с тем, отсутствие концептуального подхода к развитию законодательства порождает немало нежелательных последствий. Например, нередко это приводит к тому, что законы, которые должны приниматься в первую очередь, принимаются в последнюю, а обычный тематический закон опережает базовый, положения которого он должен бы конкретизировать. Нарушение последовательности в принятии законодательных актов, а также технические ошибки на стадии их проектирования, выражающиеся в недостаточном увязывании норм действующих и проектируемых законов, может вызывать сбой в механизме их реализации.
Пример подобного нарушения наглядно демонстрируют Федеральные законы №195 от 10 декабря 1995 г. «Об основах социального обслуживания населения в РФ» и №122 от 2 августа 1995 г. «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» [17; 18]. Оба закона были приняты в 1995 г., но почему-то тематический закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста…» был принят на полгода раньше базового закона «Об основах социального обслуживания …», и мно- гие нормы этих законов не согласуются друг с другом, либо имеет место их дублирование. Так, ст. 4 закона «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста…» закрепляет гарантии прав граждан пожилого возраста и инвалидов, которые, по идее, должны конкретизировать общие положения о гарантиях в сфере социального обслуживания, предоставляемых всем гражданам по закону «Об основах социального обслуживания …» На деле же этого не происходит и перечисленные в ст. 4 гарантии сводятся к необходимости установления стандартов социального обслуживания, повторяя тем самым ст. 6 закона «Об основах социального обслуживания …», закрепляющую требование о соответствии социальных услуг государственным стандартам.
Определения одних понятий в этих законах дополняют друг друга, например «социальное обслуживание», «социальная услуга», определения других расходятся. Так, закон «Об основах социального обслуживания …» содержит понятие системы социальных служб, а закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста…» – понятие системы социального обслуживания. Одни и те же социальные услуги первый из названных законов именует видами социального обслуживания, второй – формами социального обслуживания. Оба закона формулируют принципы социального обслуживания и деятельности в сфере социального обслуживания. При этом принципы, закрепленные в законе «Об основах социального обслуживания …», распространяются на всех нуждающихся в социальном обслуживании, поскольку он действует по более широкому кругу лиц, а принципы, закрепленные в законе «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста…», – только на субъектов данного закона. Казалось бы, вторые принципы должны быть более конкретными, однако специалисты отмечают, что это кажущаяся конкретность – принципы носят чисто декларативный характер и не имеют реальных гарантий воплощения [9. С. 31].
В целом, обозначившуюся практику закрепления в текстах законов определений основных понятий надо приветствовать. Но обращает на себя внимание, что в большинстве случаев законодатель сопровождает их устойчивыми юридическими формулировками «в целях настоящего федерального закона», «понятия и термины, используемые в настоящем федеральном законе» и т.п. Это приводит к тому, что одно и то же понятие может определяться в нескольких законах, причем, по-разному. Вряд ли в этом есть большой смысл. Скорее, это неизбежный результат отсутствия в федеральном законодательстве о социальном обеспечении единого кодифицированного закона, в котором бы содержались все отраслевые базовые дефиниции. Такие дефиниции, в идеале, создают каркас системы нормативных предписаний, которые затем могут уточняться в зависимости от специфики того или иного отраслевого института. При этом основное содержание определяемых понятий должно оставаться единым. К примеру, понятие «застрахованные лица в системе обязательного социального страхования» надлежит сопровождать следующими базовыми характеристиками: физическое лицо; имеющее доход от выполняемой работы или иной деятельности; обладающее правом получения страхового обеспечения при наступлении страхового случая. Конкретный же перечень застрахованных лиц в каждом виде обязательного социального страхования может и различаться. Но недопустимо когда в законах, регулирующих один и тот же вид страхования (пенсионное), присутствует два различных определения понятия застрахованных лиц. То же самое можно сказать и о полнятиях «страхователь», «страховые взносы», «пенсионные накопления застрахованных лиц» и др. [3. С. 111–113].
Отсутствие концептуального подхода приводит еще и к тому, что наряду со скоропалительным принятием одних, как правило, «экспериментальных», законов принятие других – запланированных и ожидаемых – затягивается [6. С. 312]. Например, явно не обладая концепцией реформирования системы натуральных льгот, законодатель не только решился на эксперимент в данной сфере, но еще и осуществил его в такие сжатые сроки, от которых специалисты, реализующие такие же программы за рубежом, просто впадают в ступор: «…как можно так дергать рычаги государственного управления, не понимая, к чему это приведет и как это на гражданах отразится?» [10. С. 156]. Помимо этого необходимо признать ошибкой юридической техники сам подход к проектированию и принятию Федерального закона №122 от 22 августа 2004 г. Этот масштабный закон, затронувший боле 250 актов, называют «законом о монетизации льгот», хотя это всего лишь 10–15% от его объема, а остальное никакого отношения к вопросам льгот не имеет. Во что угодно там вносили изменения – от социальных льгот до вопросов космической деятельности. Правильно ли это? Советник Председателя Совета Федерации РФ В.К. Плотников в связи с этим спрашивает: «Представьте себе законодателя, который честно хочет разобраться во всем этом. Сможет он 250 законов проанализировать, в то время как проходит этот законопроект? Вряд ли2. Но допустим, проанализировал. Но во что-то считает надо внести, а вот в это – не надо. А голосовать-то необходимо по всему проекту. Вот и приходится из-за одной правильной нормы принимать кучу вредоносных. Совершенно чудовищная ситуация». В.К. Плотников убежден: не должно быть нормативных актов в виде закона о внесении изменений в уже действующие законы, затрагивающие более чем одну сферу [10. С. 55-56].
Однако эта справедливая критика не оказывает должного воздействия на федерального законодателя. В конце 2008 г. вновь был принят Федеральный закон, который внес изменения в 30 законов, регулирующих всевозможные группы общественных отношений, в том числе и в сфере социального обеспечения [26]. При этом в законе нет ни преамбулы, ни вводных положений, ни даже намека на то, в связи с чем произведена такая масштабная коррекция действующего законодательства.
Думается, предлагаемые Советом Федерации подходы к концепции законопроектной деятельности и меры по ее планированию позволят уменьшить количество ошибок, возникающих уже на начальном этапе законотворчества. Кстати, определенные шаги в этом направлении уже предпринимались и в сфере права социального обеспечения. Речь идет о «пакетном» способе рассмотрения и принятия законов. Для развития отраслевого законодательства этот способ особенно важен, поскольку он гораздо эффективнее ограждает от повторений и конфликта между многочисленными и разрозненными правовыми нормами, пробельности или избыточности правового регулирования. Ведь уровень систематизации законодательства о социальном обеспечении пока низок. Пакетный способ впервые был опробован в 2001 г. при принятии серии законов по реформированию пенсионной системы РФ. Многих ошибок тогда избежать не удалось, но сам подход к проектированию и принятию законов представляется верным.
По справедливому замечанию А.С. Пиголкина, необходимой предпосылкой высокой культуры правотворчества является выявление и тщательное изучение предшествующего законодательства по вопросам, составляющим содержание проектируемого акта. Новый акт вливается в систему права и оказывает на предшествующее законодательство существенное влияние. Установление нового нормативного регулирования, его упорядочение невозможны без официального определения судьбы актов, которые по-иному регулируют тот же вопрос [16. С. 322–323]. Известный ученый в первую очередь имеет ввиду отмену устаревших, утративших свое значение актов. Но не всегда акт требует отмены – в ряде случаев необходимо скорректировать лишь его отдельные нормы, привести их в соответствие со вновь принятым актом.
Не менее важно при проектировании закона учитывать взаимосвязь норм различ- ной отраслевой принадлежности. Ведь новый нормативный акт, как правило, затрагивает и смежные области общественных отношений. При подготовке законов о социальном обеспечении такая связь нередко игнорируется. Это происходит, главным образом, потому, что соответствующие проекты правовых актов разрабатываются разными структурами при отсутствии каких-либо контактов между ними. Так случилось, например, при модернизации системы государственной службы в РФ и обновлении соответствующего законодательства в 2003– 2005 гг., что привело к коллизии между законодательством о государственной службе и нормами пенсионного законодательства.
Как известно, право на пенсию за выслугу лет федеральных государственных служащих впервые установил Федеральный закон № 166 от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» [19], который принимался в период, когда еще действовал Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации» 1995 г. Поэтому определение понятия федеральных государственных служащих как граждан, замещавших должности федеральной государственной службы и государственные должности федеральных государственных служащих, определенные Федеральным законом «Об основах государственной службы РФ», полностью соответствовало существовавшей тогда системе государственной службы. Однако закон «Об основах государственной службы РФ» с 1 января 2005 г. утратил силу, а в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2003 г. №58 «О системе государственной службы Российской Федерации» понятие «федеральная государственная служба» является собирательным, объединяющим три вида государственной службы: военной, правоохранительной и гражданской [21]. Это требует изменения абз. 5 ч. 1 ст. 2 закона «О государственном пенсионном обеспечении», в котором теперь должно содержаться понятие федеральных государственных гражданских служащих. Необходимо изменить и все иные статьи и их части, ка- сающиеся вопросов пенсионирования указанной категории служащих. Иначе получается, что право на пенсию за выслугу лет по условиям ст. 7 данного закона распространяется на федеральных государственных служащих всех видов государственной службы, хотя на самом деле это не так.
Но главная проблема видится не в терминологических расхождениях, а в необходимости унификации условий и норм пенсионного обеспечения в связи с прохождением любого вида государственной службы. Это следует из положений Федерального закона от 27 июля 2004 г. №79 «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [22]. В частности, ст. 6 закона устанавливает взаимосвязь гражданской государственной службы и государственной службы иных видов. Указано, что эта взаимосвязь обеспечивается на основе единства системы государственной службы и принципов ее построения и функционирования. В частности, предусмотрена соотносимость основных государственных социальных гарантий и основных условий государственного пенсионного обеспечения граждан, проходивших различные виды государственной службы. В ст. 52 закона имеется ссылка на некий Федеральный закон о государственном пенсионном обеспечении граждан РФ, проходивших государственную службу, и их семей. В названии проектируемого закона «читается» намерение законодателя объединить в одном акте нормы пенсионного законодательства, регулирующего отношения по пенсионному обеспечению государственных служащих всех видов государственной службы. Пока они содержатся в разных правовых нормативных актах. Самые значительные из них – Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении» 2001 г. и Закон РФ от 12 февраля 1993 г. №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях уголовноисполнительной системы и их семей» [2].
Таким образом, планирование законопроектной деятельности, уделение должного внимания концепции законопроекта, соблюдение требования о взаимоувязывании норм различных отраслей законодательства при подготовке законов в сфере права социального обеспечения должно стать необходимым условием своевременного обновления отраслевой нормативной базы, выявления коллизий и пробелов правового регулирования. Соблюдение этих базовых требований законодательной техники позволит избежать многих ошибок, снижающих эффективность законодательства о социальном обеспечении.
Список литературы Недостатки законодательной техники в российском законодательстве о социальном обеспечении
- Баранов В.М. Концепция законопроекта: понятие, элементы, виды, проблемы реализации//Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: сб. ст.: в 2 т./под ред. В.М. Баранова. Н.Новгород, 2001. Т. 1. С. 82-133.
- Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. №9. Ст. 328.
- Васильева Ю.В. Пенсионное право Российской Федерации. Пермь, 2006.
- Доклад Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2007 г. «О состоянии законодательства в Российской Федерации. Законодательное обеспечение основных направлений внутренней и внешней политики». М.: Издание Совета Федерации, 2008.
- Иеринг Р. Юридическая техника/сост. А.В. Поляков. М., 2008.
- Кобзева С.И. Повышение качества источников права социального обеспечения -гарантия реализации права на жизнь//Право человека и гарантии его реализации в сфере труда и социального обеспечения: материалы междунар. науч.-практ конф./под ред. К.Н. Гусова. М., 2008. С. 310-315.
- Концепции развития российского законодательства/под ред. Л.А. Окунькова, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловского. М., 1998.
- Концепция реформирования системы пенсионного обеспечения РФ. Утв. постановлением Правительства РФ от 7 августа 1995 г. №790//Рос. газ. 23 августа 1995 г.
- Левина М.И. Анализ законов о социальной защите уязвимых групп населения (1995-1999 гг.)//Социальное законодательство России и Великобритании. М., 2000. С. 20-58.
- Мониторинг правового пространства и правоприменительной практики. Пятилетние итоги и перспективы конституционного партнерства: материалы V Всероссийской научно-практической конференции 26-27 июня 2007 г. М.: Издание Совета Федерации, 2007.
- Морозова И.С. Проблемы оптимизации процесса «монетизации» натуральных преимуществ в РФ//Журнал Российского права. №8. 2005.
- Муромцев Г.И. О некоторых особенностях законотворческой техники и методологии ее исследования в современной России//Законотворческая техника современной России… Т. 1. С. 74-82.
- Определение Конституционного Суда РФ от 11 мая 2006 г. №187-О «По жалобе гражданина Наумчика Вячеслава Викторовича на нарушение его конституционных прав положениями п.п. 2 и 3 ст. 3 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»//СЗ РФ. 2006. №32. Ст. 3585.
- Поленина С.В. Качество закона и эффективность законодательства//Советское государство и право. 1987. №7.
- Поленина С.В. Каким хотелось бы видеть Свод законов Российской Федерации как социального государства//Систематизация законодательства в России (историко-правовые, теоретико-методологические и технико-юридические проблемы. Н. Новгород, 2008. С. 308-317.
- Проблемы общей теории права и государства/под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2001.
- СЗ РФ. 1995. №50. Ст. 4872.
- СЗ РФ. 1995. №32. Ст. 3198.
- СЗ РФ. 2001. №51 (1 ч.). Ст. 4831.
- СЗ РФ. 2001. №52 (1 ч.). Ст. 4920.
- СЗ РФ. 2003. №22. Ст. 2063.
- СЗ РФ. 2004. №31. Ст. 3215.
- Сырых В.М. Предмет и система законодательной техники как прикладной науки и учебной дисциплины//Законотворческая техника современной России… Т. 1. С. 9-24.
- Федеральный закон №122 от 22 августа 2004 г. «О внесении изменений в законодательные акты Российской федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»//СЗ РФ. 2004. №35. Ст. 3607.
- Федеральный закон № 56 от 30 апреля 2008г. «О дополнительных взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»//СЗ РФ. 2008. №18. Ст. 1943.
- Федеральный закон №281 от 25 декабря 2008 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»//СЗ РФ. 2008. №52 (ч. 1). Ст. 6236.