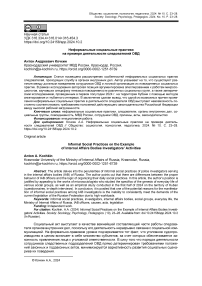Неформальные социальные практики на примере деятельности следователей ОВД
Автор: Кочкин А.А.
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 10, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению особенностей неформальных социальных практик следователей, проходящих службу в органах внутренних дел. Автор указывает на то, что существуют различия между должным поведением сотрудников ОВД и логикой организации их повседневных социальных практик. В рамках исследования авторская позиция аргументирована апеллированием к работам микросоциологов, изучавших специфику генезиса повседневности различных социальных групп, а также эмпирическим исследованием, проведенным в первом полугодии 2024 г. на территории Кубани с помощью методов анкетирования и глубинного интервью. В заключение сделан вывод, что одной из возможных причин проявления неформальных социальных практик в деятельности следователя ОВД выступает невозможность постоянно соответствовать требованиям положений действующего законодательства Российской Федерации ввиду высокой рабочей загруженности.
Неформальные социальные практики, следователи, органы внутренних дел, социальные группы, повседневность, мвд России, сотрудники овд, причины, акты, законодательство
Короткий адрес: https://sciup.org/149146614
IDR: 149146614 | УДК: 316.334.4+316.014+316.454.3 | DOI: 10.24158/spp.2024.10.2
Текст научной статьи Неформальные социальные практики на примере деятельности следователей ОВД
Краснодарский университет МВД России, Краснодар, Россия, ,
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Krasnodar, Russia, ,
При этом важно понимать, что позитивные нормы определяют лишь часть поведения индивида закрытой маркированной социальной группы, относящейся к федеральным органам исполнительной власти, поскольку в таких нормах не содержится сведений, за редким исключением, о том, какими мотивами должен руководствоваться следователь, например, в повседневной деятельности (Скорикова, 2024). Исключением, возможно, в связи с этим является Кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России от 26 июня 2020 г. № 460, где закреплены общие требования к поведению государственного служащего, проходящего службу в системе МВД России, как на рабочем месте, так и во внеслужебное время1. Таким образом, особенности социальной активности следователя ОВД учитываются в основном в контексте проведения следственных действий и вынесения тех или иных процессуальных решений, однако социальные акты следует понимать гораздо шире спектра обязанностей и полномочий, указанных в УПК РФ.
Когда речь идет о неформальных практиках следователей, то чаще всего понимаются такого рода социальные акты, которые «выпадают» за рамки правового поля, определенного законодателем (Кубякин, Кочкин, 2024). Иными словами, в категорию неформальных практик включаются именно не соответствующие критериям, определенным на уровне нормативного правового акта (Goffman, 1957). Однако само по себе утверждение общих критериев парадигмы поведения следователя не означает, что в случае, если какие-то практики будут произведены без учета требований законодателя, то они по умолчанию будут считаться делинквентными. Имеют место такие социальные акты, которые не учитываются и не могут учитываться на формально-правовом уровне по причине того, что большинство индивидов не рефлексируют над ними, однако такого рода действиям значительное внимание уделяется в исследованиях по микросоциологии (Беккер, 2018; Блумер, 2017; Гарфинкель, 2007; Гоффман, 2009). Следовательно, подобные паттерны поведения априори могут считаться неформальными независимо от реакции общественности или государственных органов на них. Данный факт подчеркивает, что категорию «неформальность» определяет не социальный контекст, реакция окружающих на действия следователя или последствия, которые могут наступать из-за социально значимых действий, а исключительно соответствие того или иного действия следователя требованиям положений нормативных правовых актов.
Следует отметить, что безоговорочно классифицировать и детерминировать варианты поведения государственного служащего крайне затруднительно, учитывая, что речь идет не о должностной категории, которая по природе является фикцией, а об индивиде со своими поведенческими особенностями, замещающем должность в следственном подразделении органа внутренних дел, что видно в историко-социальном экскурсе.
В XVIII–XIX вв. социальные акты должностных лиц рассматривались не только с позиции «одобрения» практик поведения государственных служащих государственными органами (хотя при этом и учитывалось их соответствие требованиям, предъявленным законодателем). Одной из важнейших особенностей интерпретации повседневных социальных практик должностных лиц являлось то, что они вместе с этим имели далеко не последнее место в социальной стратификации, что актуализировалось вновь в начале ХХ в. (Шеуджен, Яблонский, 2018).
Возвращаясь к историческому экскурсу, следует указать, что представители дворянских сословий имели право занимать посты в государственных структурах. В свою очередь, это требовало соблюдения дополнительных неформальных правил, а именно норм того высшего общества в социальной стратификации, членом которого является должностное лицо, и правил этики, которые, помимо того что закреплялись на уровне подзаконных актов, еще и диктовались правилами страты. Следовательно, можно сделать вывод, что так называемая формальность социальных актов сотрудника ведомственной организации верифицировалась посредством соблюдения не только требований, определенных на уровне нормы права, но и конвенциональных норм. Анализируя неформальные повседневные практики государственных служащих в историческом аспекте, можно сказать, что границы между формальными и неформальными социальными практиками служащего несколько размыты, так как одобрение служебного поведения во многом достигалось путем соблюдения неформальных правил.
В начале ХХ в. тенденция условного разделения социальных актов государственного служащего еще сохраняется, что, например, иллюстрируется Кодексом чести русского офицера, или Советами молодому офицеру авторства ротмистра В.М. Кульчицкого, поскольку данный свод правил не имел никакой юридической силы, а являлся авторским взглядом на особенности служебного поведения офицера2. Однако уже в советский период социальные практики сотрудников ОВД в значительной степени трансформируются, что обусловлено изменениями в социальной дифференциации российского общества.
В 90-е гг. ХХ в. происходит очередной существенный виток в контексте трансформации деятельности государственного служащего. На фоне социальной, политической, экономической и духовной стагнации, вызванной образованием нового Российского государства, граница между формальными и неформальными практиками почти стирается. Более того, неформальные практики стали практически нормой, поскольку контроль за соблюдением законности действий сотрудников ОВД и поддержанием служебной дисциплины значительно снизился. Таким образом, в это время формально определенные социальные акты следователей и неформальные практики нередко фактически менялись местами.
В настоящее время вариативность социальных практик следователей органов внутренних дел высока. Несмотря на то что в современном научном социологическом дискурсе основной акцент на неформальные практики сделан представителями микросоциологии, отдельные аспекты проявления таких поведенческих особенностей эксплицируются эмпирическим путем посредством анкетирования и интервью.
В целях уточнения специфики неформальных практик следователей органов внутренних дел целесообразно брать во внимание следующие показатели индивидов, занимающих определенные должности: пол, возраст, выслуга лет, территориальное подразделение ОВД, специальное звание, должность, уровень образования. К основным составным частям неформальных практик как социальных актов можно отнести мотивы (корыстный, уклонение от выполнения служебных обязанностей, халатность, невнимательность, высокая рабочая нагрузка); средства (то, что помогло достичь поставленной цели; здесь имеются в виду как социальные связи сотрудника, так и объекты материального мира вроде транспортного средства, например); цель (то, ради чего следователем ОВД совершается социальный акт).
В целях изучения изложенных особенностей институционализации неформальных социальных практик в следственных подразделениях органов внутренних дел нами разработана анкета для сбора актуальных эмпирических сведений в Краснодарском крае о специфике институционализации повседневных практик следователей. Вопросы построены таким образом, чтобы отвечающий имел возможность указать свои данные относительно пола, возраста, выслуги лет в ОВД, следственного подразделения, в котором он проходит службу, специального звания, должностного положения и другие сведения.
Анкета направлена в органы предварительного следствия МВД России в апреле 2024 г. Анонимные ответы получены от 22 подразделений. 184 респондента, являющиеся сотрудниками следственных подразделений ОВД, прошли анкетирование, что составляет примерно 10 % от общего количества штатной численность следователей системы МВД России Краснодарского края. 67 % опрошенных мужчины, у 97 % имеется высшее образование, 54 % проходят службу в ОВД на должностях следователей. У 69 % респондентов срок службы в ОВД не превышает 2 года, а у 66 % аналогичный срок равен сроку службы именно в следственных подразделениях органов внутренних дел. Это говорит о том, что небольшая часть опрошенных государственных служащих ранее работали на иных должностях в ОВД.
Примечательно, что 77 % участников исследования на прямой вопрос «Допускаете ли Вы в своей служебной деятельности возможности отступления от требований положений законных и подзаконных актов, регламентирующих особенности прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации и порядок расследования уголовных дел?» ответили отрицательно. Это свидетельствует скорее о том, что сотрудники следственных подразделений либо обладают высоким уровнем правосознания и не склонны совершать противоправные действия, которые не обязательно носят противоправный характер, а выступают в качестве незначительного отклонения от рамок должного поведения в ОВД, либо недостаточно честно и объективно оценивают свои поведенческие паттерны в контексте имеющийся правовой детерминации актами МВД России и федеральным законодательством.
Эти же данные указывают на то, что специальное звание не является релевантным критерием, отражающим специфику институционализации неформальных социальных практик среди данной категории сотрудников, поскольку, как отмечено ранее, большая часть опрошенных указали, что в их деятельности есть такого рода паттерны поведения, которые не детерминированы нормами позитивного права. Хотя очевидно, что выслуга лет и специальное звание находятся в прямой зависимости друг от друга. Это подтверждается требованиями ст. 42 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ1.
Подобные результаты анкетирования представляется возможным интерпретировать посредством сведений, полученных в ходе включенного наблюдения1. Так, есть основания полагать, что руководящие должности в следственных подразделениях ОВД Краснодарского края замещают именно те сотрудники, которые обладают опытом расследования уголовных дел различных категорий, но при этом могут не иметь высоких специальных званий относительно общей массы руководящего состава территориальных органов МВД России на районном уровне края. На это указывает, в частности, тот факт, что на должность заместителя начальника одного из причерноморских следственных отделов в середине 2022 г. назначен сотрудник в звании лейтенанта юстиции, не имеющий выслуги, превышающей и 10 лет, хотя его должность открывает возможность для получения специального звания подполковника юстиции. При этом возраст данного сотрудника не превышал 27 лет. Это указывает на то, что в настоящее время предпочтение в следственных органах отдается молодым, но инициативным сотрудникам. Данный пример не показывает динамику повседневных социальных практик следователей ОВД, но отражает социально статусные особенности отдельных категорий обозначенных должностных лиц.
В то же время, например, на вопрос «Есть ли у Вас в настоящее время в производстве уголовные дела, приостановленные по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, т. е. в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого?» 83 % опрошенных ответили утвердительно. С одной стороны, это лишь показывает, что в органах предварительного следствия края существует множество уголовных дел, по которым лицо, подлежащие привлечению к уголовной ответственности, еще не установлено. С другой стороны, наличие большого объема уголовных дел, по которым предварительное следствие приостановлено в силу неустановления злоумышленника, контрастирует с требованием положения ч. 2 ст. 21 УПК РФ. Это аргументируется следующим: в анализируемой статье УПК РФ указано, что если следователь обнаружил признаки преступления и возбудил уголовное дело, которое в настоящее время находится в его производстве, то он обязан принять меры по изобличению лица, виновного в совершении преступления. С этой точки зрения опрошенные сотрудники следственных подразделений края самостоятельно сообщили о том, что не выполняют предписания УПК РФ. Хотя стоит также отметить, что в условиях высокой текучести кадров и значительного количества уголовных дел, находящихся в производстве следователей ОВД Краснодарского края, представляется крайне затруднительным скрупулезное выполнение всех законодательных предписаний рассматриваемой категорий сотрудников.
42 % респондентов отметили, что проходят службу в городской местности. Это косвенно указывает на то, что для них в том числе характерно использование паттернов поведения за рамками правового поля. Однако данный пример не может являться аргументом, иллюстрирующим, что следователи из городских поселений и городских округов склонны совершать действия, не регламентированные УПК РФ и ведомственными актами, поскольку ввиду ограниченности выборки такого рода корреляции между местом прохождения службы и особенностями поведения могут оказаться преждевременными.
Таким образом, на уровне неполного выполнения требования действующего уголовно-процессуального закона Российской Федерации следователи допускают нарушения формальных правил.
В целях опроса сотрудников следственных подразделений Краснодарского края мы выборочно проинтервьюировали представителей системы МВД России, проходящих службу на Кубани (города Краснодар, Тихорецк, Новокубанск, Горячий Ключ) с марта по июнь 2024 г. Представленные далее результаты являются случаем частного исследования: указаны наиболее интересные, по нашему мнению, предварительные данные. Более полные описание и интерпретация интервью будут проведены в рамках последующих работ.
Результаты интервью показали, что 11 из 12 опрошенных следователей утвердительно заявили о том, что практически невозможно, постоянно занимаясь расследованием уголовных дел, точно и скрупулезно соблюдать букву закона. В противном случае процессуальные сроки с высокой долей вероятности будут пропущены, что в конечном счете может привести к наложению на сотрудника ОВД дисциплинарного взыскания, а также к невозможности привлечения к ответственности злоумышленника, допустившего совершение уголовно наказуемого деяния.
Например, один из опрошенных следователей ОВД в Краснодаре рассказал о невозможности соблюдения требований положений ст. 144 УПК РФ, где указано о необходимости проведения полноценной доследственной проверки в рамках проверки сообщения о преступлении (стадия, которая предшествует возбуждению уголовного дела), поскольку, в частности, для грамотной квалификации преступлений общеуголовной направленности, связанной с хищением имущества (например, с кражей), целесообразно проводить экспертную оценку имущества в целях размежевания составов (например, ч. 1 и 2 ст. 158 УК РФ): разные составы – разная подследственность, на что указано в ст. 150 и 151 УПК РФ.
При этом фактически ни одним сотрудником ОВД на стадии проверки сообщения о преступлении данные действия не проводятся, что зачастую связано с большим количеством аналогичных фактов совершения преступлений. В таком случае квалификация преступления осуществляется со слов потерпевшего: он называет примерную сумму ущерба (например, у него похитили телефон определенной торговой марки, который с учетом износа стоит около 10 000 р., что для него является значительным ущербом, поскольку его ежемесячный доход не превышает 35 000 р.), но слова лица, которому причинен ущерб, не подтверждаются мнением эксперта (специалиста).
Аналогичные факты сложности соблюдения требований положений законных и подзаконных актов следователями видны на примере реализации ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ. В данной статье говорится о разумном сроке уголовного производства. Если имеют место факты продления срока предварительного следствия, однако следователем длительное время – на протяжении 5 или 6 месяцев расследования уголовного дела – не совершаются следственные действия, то такие действия могут быть признаны нарушением принципа разумного срока уголовного судопроизводства. Однако один из опрошенных следователей задает вопрос: что делать в ситуации, если местонахождение подозреваемого (обвиняемого) установлено, все следственные действия проведены, но в настоящее время в целях формирования доказательственной базы необходимо допросить ключевого свидетеля, который был очевидцем преступления, но местоположения которого установить не удалось? Такого рода ситуации и побуждают к действиям в обход правил, установленных законом.
В заключение отметим, что эмпирические данные, полученные в первой половине текущего года в следственных подразделениях ОВД Краснодарского края, свидетельствуют о том, что, вероятно, одним из ключевых факторов институционализации неформальных следственных практик является невозможность придерживаться требований действующих норм, регулирующих особенности поведения сотрудника ОВД на службе, а также порядка уголовно-процессуального преследования подозреваемых и обвиняемых. Это указывает на то, что паттерны поведения, относящиеся к категории неформальных повседневных практик, могут быть обнаружены не только посредством индуктивного анализа и включенного наблюдения в интеракционистской парадигме, но и за счет иных эмпирических методов исследования, применяемых не только микросоциологами (хотя Г. Беккер (2018) и Э. Гоффман (2019) обращались к интервьюированию). Полученные эмпирические данные показывают, что сотрудники совершают действия, которые хотя и выходят за рамки правового поля, но не всегда создают угрозу общественной опасности. Указанные наблюдения побуждают в дальнейшем квалифицировать неформальные практики следователей ОВД с учетом достижений современной социологической науки, эмпирических данных и актуальных требований нормативных правовых актов России.
Список литературы Неформальные социальные практики на примере деятельности следователей ОВД
- Беккер Г. Аутсайдеры: исследования по социологии девиантности. М., 2018. 272 с.
- Блумер Г. Символический интеракционизм: перспектива и метод / пер. с англ. А.М. Корбута. М., 2017. 346 с.
- Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб., 2007. 334 с.
- Гоффман Э. Тотальные институты: очерки о социальной ситуации психических больных пациентов и прочих постояльцев закрытых учреждений / пер. с англ. А.С. Салин. М., 2019. 464 с.
- Кубякин Е.О., Кочкин А.А. К вопросу об интерпретации социальных повседневных практик индивида в контексте дихотомии "субъект - объект": от антропологии к социологии повседневности // Общество, право, государственность: ретроспектива и перспектива. 2024. № 2 (18). С. 81-89. EDN: AKDNUC
- Скорикова Ю.Н. К вопросу о соотношении категорий "правосознание" и "правовое поведение" военнослужащих в интеракционистской парадигме юридической психологии // Психология и педагогика служебной деятельности. 2024. № 1. С. 34-38. DOI: 10.24412/2658-638X-2024-1-34-38 EDN: TLTKOG
- Шеуджен Н.А., Яблонский И.В. Формирование организационно-правовых основ следственных аппаратов в Советской России до начала систематизации законодательства в правоохранительной сфере (1917-1922 гг.) // Общество и право. 2018. № 1 (63). С. 87-90. EDN: YWHZVN
- Goffman E.Interpersonal persuasion // Group processes: Transaction of the Third Conference / ed. by B. Schaffner. N. Y., 1957. P. 117-193.