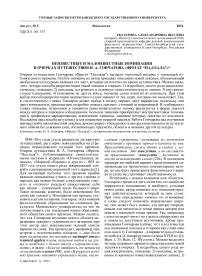Неизвестные и малоизвестные номинации в очерках путешествия И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”»
Автор: Щеглова Екатерина Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (142), 2014 года.
Бесплатный доступ
Очерки путешествия Гончарова «Фрегат “Паллада”» вызвали огромный интерес у читающей публики своего времени. Особое значение их автор придавал описанию новой лексики, обозначающей необычные культурные явления тех мест, которые он посетил во время путешествия. Можно выделить четыре способа репрезентации такой лексики в очерках: 1) подробное, своего рода энциклопедическое, описание; 2) описание, встроенное в основную повествовательную линию; 3) внутритекстовое толкование; 4) пояснение не дается вовсе, значение слова понятно из контекста. При этом выбор способа репрезентации неизвестного слова зависит от тех задач, которые оно выполняет. Так, в «экзотических» главах Гончаров делает выбор в пользу первых двух вариантов, поскольку они дают возможность максимально подробно описать предмет, стоящий за номинацией. В «сибирских» главах описание, встроенное в основную повествовательную линию, реализуется в форме диалога между автором и знающим собеседником. Большое значение приобретают внутритекстовые толкования и графически маркированные лексические единицы, значение которых понятно из контекста. Последние два способа актуальны и для пояснения морской лексики. Работа Гончарова над изучением неизвестной и малоизвестной лексики демонстрирует убежденность автора в невозможности культурного обмена без усвоения слов, обозначающих предметы, объекты и явления другой культуры.
И. а. гончаров, "фрегат "паллада"", историческая лексикология, стилистика, культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14750694
IDR: 14750694 | УДК: 811.161.1''37
Текст научной статьи Неизвестные и малоизвестные номинации в очерках путешествия И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”»
1840–50-е годы стали расцветом литературы путешествий, регулярно появлявшейся на страницах периодических изданий того времени. Очерки путешествия И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”», публиковавшиеся самостоятельными частями в журналах «Отечественные записки», «Морской сборник» и других с 1855 по 1857 год, стали своего рода завершающей точкой и одновременно вершиной этого периода [3]. Для читающей публики того времени крайне важным оказывалось узнать о других странах и народах как можно больше: сопоставление «своего» и «чужого» рождало самосознание себя как нации – суверенной части большого мира. Такое познание, конечно, было невозможно без слова как такового. Номинация как процесс становится актом познания. Гончаров, получивший филологическое образование на словесном факультете Московского университета, не мог не почувствовать эти тенденции жизни образованного общества своего времени. Можно сказать, что для Гончарова изучение нового объекта неразрывно связано с усвоением его названия, при этом автор дает максимально полный список вариантов слова. Так происходит, например, при встрече с экзотическими плодами: «...еще были тут называемые по-английски кастард-эппльз (custard apples) плоды, похожие видом и на грушу, и на яблоко, с белым мясом, с черными семенами», и далее: «Если не ошибаюсь, по-испански он называется нона» (98)1, или «Я разрезал плод: под красною мякотью скрывалась белая, кисло сладкая сердцевина, состоящая из нескольких отделений с крупным зерном в каждом из них. Прохладительно, свежо, тонко и сладко, с легкой кислотой. Это мангустан, а по английскому произношению “мангустэн”. Англичане не могут не исковеркать слова» (256). В последнем примере английский вариант произношения сопровождается ироничным комментарием автора, но сам факт приведения фонетического варианта слова не утрачивает своей значимости.
Встречаясь с новым явлением или объектом, Гончаров стремится дать читателю его наиболее корректную номинацию, и наоборот, услышав новое слово, автор поясняет его, описывая предмет действительности, который за ним стоит. При этом определение «новое» по отношению к слову следует понимать максимально широко: оно может быть новым для автора очерков, новым для читателя (с точки зрения автора) или новым с языковой точки зрения. Так, например, слово кастард-эппльз не удалось обнаружить ни в одном из доступных источников, кроме произведения Гончарова (сейчас этот плод известен под названием аннона ), в то время как слова айва или манго (у Гончарова – в варианте манга ) можно найти в «Словаре русского языка XVIII в.» ([4; Вып. 1, 33; Вып. 12, 58] соотв.). Можно выделить четыре основных варианта представления новой лексики в очерках: 1) подробное, своего рода энциклопедическое, описание; 2) описание, встроенное в основную повествовательную линию; 3)
внутритекстовое толкование; 4) отсутствие пояснения, значение слова понятно из контекста. В разных частях произведения автор делает выбор в пользу разных способов репрезентации «новых» слов в зависимости от тех стилистических задач, которые они призваны выполнять. С этой точки зрения «Фрегат “Паллада”» можно разделить на две части, в которых способы репрезентации будут существенно различаться: «экзотические» и «сибирские» главы.
В «экзотических» очерках обнаруживаются два первых способа репрезентации «новых» слов, использующиеся для подробного и разностороннего описания предмета или явления, стоящего за номинацией, значение которой раскрывается. Следует при этом отметить важное отличительное свойство «энциклопедической» справки: она останавливает сюжетное время и тем самым дает возможность читателю сосредоточить свое внимание непосредственно на описываемом явлении и его номинации, при этом основной сюжет становится рамкой для подобного пояснения «нового» слова: « Мы наткнулись на маленький рынок . На берегу речки росло роскошнейшее из тропических деревьев – баниан ». Далее следует подробное описание баниана, его внешнего вида, после чего читатель вновь возвращается автором на рынок: « Анжерское дерево покрывало ветвями весь рынок... » (250). В свою очередь, встроенное в повествование описание, не останавливая сюжетное время, вводит читателя в контекст совместного с автором усвоения нового знания, тем самым сохраняется ощущение непосредственной пульсации жизни: « Отдохнешь у лавки с плодами: тут и для глаз, и для носа хорошо. С удивлением взглянете вы на исполинские лимоны-апельсины, которые англичане называют пампль-мусс . Они величиной с голову шести-семилетнего ребенка; кожа в полтора пальца толщины. Их подают к десерту, но не знаю зачем: есть нельзя. Мы попробовали было, да никуда не годится: ни кислоты лимона нет, ни сладости апельсина. Говорят, они теперь неспелые, что, созревши, кожа делается тоньше и плод тогда сладок: разве так » (418) (речь идет о грейпфрутах). Читатель вводится в повествование с помощью обобщенной конструкции уже в первом предложении, во втором он становится непосредственным субъектом, при этом и читатель, и автор со спутниками (« мы попробовали ») противопоставлены тем, чей мир описывается (неопределенно-личные конструкции: « подают », « говорят »), – на грамматическом уровне воплощается противопоставление «свое» – «чужое».
Следует особо отметить, что какой бы из представленных способов репрезентации «новых» слов ни выбрал автор, в его описании будет присутствовать сильное личностное начало. Автором используются сравнительная и превосходная степени прилагательных: мандарины признаны очень сладкими, о кастард-эппльз он замечает – нет лучше плода, баниан назван роскошнейшим деревом; предпочтение отдается лексическим единицам, имеющим в своем значении эмотивно-оценочный элемент: сладость жу-жубов – приторная и бесхарактерная, вкус кастард-эппльз – мягкий и нежный, пампль-мусс – исполинский (вместо более нейтральных большой, крупный). В ряде случаев выносится и непосредственная оценка, как в приведенном выше примере с пампль-муссом («не знаю зачем: есть нельзя», «никуда не годится», «разве так»). Тем самым у читателя создается иллюзия непосредственного участия: познание «чужого» происходит на ином, отличном от научного, уровне – уровне личностного восприятия конкретного отдельно взятого предмета с вполне определенной локацией и временнóй отнесенностью как представителя целого класса подобных предметов (о научном описании см.: [2]).
В «экзотических» главах объект восприятия неотделим от номинации, чаще всего то и другое возникают в повествовании одновременно: «Сады их окаймляли дорогу тенистыми дубами, кустами алоэ, но всего более айвой, которая росла непроходимыми кустами, с желтыми фруктами. Вы знаете айву? Это что-то вроде крепкого, кисловатого яблока, с терпкостью, от которой вяжет во рту; его есть нельзя; из него делают варенье и т. п.» (181). Иногда объект возникает прежде своего названия (например, в случае с мангустаном). В этом отличие «экзотических» глав от «сибирских»: в них Гончаров двигается по линии от слова к предмету. Именно поэтому необходимые сведения об объекте читатель нередко получает непосредственно из диалога автора со знающим собеседником, то есть пояснение дается «внутри» повествования, но задан иной вектор познания: «…медведи – и такое чудо, – говорил смотритель, – ходят вместе со скотом и не давят его, а едят рыбу, которую достают из морды...» - «Из морды?» -спросил я. «Да, что ставят на рыбу, по-вашему мережи» (668) (разговор со смотрителем станции). В этом примере предмет, стоящий за данной номинацией, отнюдь не новый, потенциальный интерес для читателя представляет само наименование. Однако в ряде случаев предмет описания будет не вполне обычным, но особый интерес здесь возникает к форме слова, ее осмыслению: «“В иных местах есть поварни”», – говорят мне. При этом слове, конечно, представится вам и повар, пожалуй, в воображении запахнет бифстексом, котлетами... “Поварня, – говорят мне, – пустая, необитаемая юрта с одним искусственным отверстием наверху и со множеством природных щелей в стенах, с очагом посредине – и только”. Следовательно, это quasi-поварня. Если хотите сделать ее настоящей поварней, то привезите с собой повара, да кстати уж и провизии, а иногда и дров, где лесу нет; не забудьте взять и огня: попросить не у кого, соседей нет кругом; прямо на тысячу или больше верст пустыня, направо другая, налево третья и т. д.» (686). Весь отрывок проникнут иронией к той «ловушке», которую представляет для носителя русского языка слово поварня в представленном значении. Эта ирония ощущается нами и в употреблении латинского форманта quasi- рядом со словом, обозначающим реалию «дикого» края, и в обыгрывании родства слов поварня и повар, и в употреблении слова пустыня в конкретно-вещественном значении. Между тем слово поварня действительно хорошо известно в ином значении: в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» в качестве первого значения дается следующее: ‘помещение для приготовления кушаний, а также напитков’ [5; Вып. 15, 140], в «Словаре русского языка XVIII в.» в качестве первого значения дано ‘кухня’ [4; Вып. 20, 91]. При этом удивление вызывает молниеносность реакции автора на каждую новую номинацию, благодаря его живому интересу к слову как таковому создается тот особый колорит развивающейся Сибирской Руси (как называет сам Гончаров эти земли). Можно обнаружить целую серию толкований слов в диалоге, при этом одно пояснение ведет за собой другое: «“Лучше всего вам кухлянку купить, особенно двойную...” – сказал другой, вслушавшийся в наш разговор. “Что это такое кухлянка?” – спросил я. “Это такая рубашка из оленьей шкуры, шерстью вверх. А если купите двойную, то есть и снизу такая же шерсть, так никакой шубы не надо”. “Нет, это тяжело надевать, – перебил кто-то, – в двойной кухлянке не поворотишься. А вы лучше под одинакую кухлянку купите пыжиковое пальто, – вот и всё”. – “Что это такое пыжиковое пальто?” – “Это пальто из шкур молодых оленей”. “Всего лучше купить вам бор-ловую доху, – заговорил четвертый, – тогда вам ровно ничего не надо”. – “Что это такое бор-ловая доха?” – спросил я. “Это шкура с дикого козла, пушистая, теплая, мягкая: в ней никакой мороз не проберет”» (674). Далее аналогичным образом поясняются слова торбасы, чижи, наледи, хиус, отемнеть – всего в этом диалоге находят свое пояснение 8 номинаций. Почти все лексемы представлены в словаре В. И. Даля: кухлянка, наледи, пыжиковый (’тонкий, плохой мех’), чижи – с пометой сиб. ([1; Т. II, 232]; [1; Т. II, 444]; [1; Т. III, 568]; [1; Т. IV, 622]); доха – урал. ([1; Т. I, 499]); борловый, торбасы – вост.-сиб. ([1; Т. I, 117]; [Т. IV, 429]); сложнее со словом хиус: Даль дает несколько вариантов: хиз, хиус, хиуз, фиуз с пометами новг., сиб., арх., олон., но глаголы хиузит, захиузило определяет как сиб. [1; Т. IV, 563]. Выбивается из этого ряда глагол отемнеть, известный не только на территории Сибири: глагол отемнятися (отьмнятися) в значении ‘потерять способность видеть’ можно обнаружить в «Словаре русского языка XI–
XVII вв.» [5; Вып. 13, 235]. Очевидно, что Гончаров останавливается на лексических единицах, обычно не входящих в активный словарный запас образованного столичного жителя.
Следует отметить, что такой способ представления «новых» слов в «сибирских» главах является ведущим, между тем как «энциклопедические» справки сходят на нет. Ведущий способ дополняют два практически не задействованных в «экзотических» главах: внутритекстовые толкования и слова, значения которых понятны из контекста. Внутритекстовые толкования даются, как правило, в скобках и по сути представляют собой перевод региональной лексической единицы на литературный язык: « А не то так в лодке останутся: не азойно будет» (то есть: “Не тяжело”) » (666). В «экзотических» главах подобным образом приводятся переводы иностранных слов: « ...на кустах порхало множество разнообразных птиц. Я заметил одну, синюю, с хвостом более четверти аршина длиной. Она называется sugarbird (сахарная птица) оттого, что постоянно водится около так называемого сахарного кустарника » (153). В случаях, когда «новое» слово не получает пояснения, а его значение читатель восстанавливает из контекста, само слово в тексте графически маркируется автором: « Ты, парень, – говорят ему, – пошевеливайся, коренняк-то больно торопится » (710) (в печатных изданиях слово выделено курсивом).
Отдельно следует остановиться на тех частях очерков, в которых описывается морской быт на фрегате: морская лексика также поясняется Гончаровым, и здесь преобладают внутритекстовые толкования и контекстуально понятные слова. При этом внутритекстовые толкования могут быть достаточно подробными, напоминающими описание значений слов в толковом словаре: «“Нет, постой ташшить! – кричали другие, – оборвется; давай конец!” (Конец – веревка, которую бросают с судна шлюпкам, когда пристают и в других подобных случаях)» (590). Особого внимания заслуживает случай с толкованием сочетания авральная работа: услышав его впервые, автор требует немедленного пояснения у моряков: «”Зачем это зовут всех наверх?” – спросил я бежавшего мимо меня мичмана. “Свистят всех наверх, когда есть авральная работа”, – сказал он второпях и исчез. Цепляясь за трапы и веревки, я выбрался на палубу и стал в уголок. Всё суетилось. “Что это такое авральная работа?” – спросил я другого офицера. “Это когда свистят всех наверх”, – отвечал он и занялся – авральною работою» (17). Затем моряки поясняют значение сочетания, причем автор представляет его уже не в виде диалога, а дает внесюжетно, остановив повествовательное время: «Авральная работа – значит общая работа, когда одной вахты мало, нужны все руки, оттого всех и “свистят наверх”! По-английски, если не ошибаюсь, и командуют “Все руки вверх!” (“All hands up!”)» (17) – далее следует многократное употребление этого сочетания, при этом каждый раз оно заключается в кавычки: «Поезжайте летом на кронштадтский рейд, на любой военный корабль <…> и если нет “авральной” работы на корабле, то я вам ручаюсь за самый приятный прием» (19); «Офицеров никого не было в кают-компании: все были наверху, вероятно “на авральной работе”» (21) и др. И затем уже без кавычек сочетание употребляется в ироничном ключе: «Я думал, судя по прежним слухам, что слово “чай” у моряков есть только аллегория, под которою надо разуметь пунш, и ожидал, что когда офицеры соберутся к столу, то начнется авральная работа за пуншем, загорится живой разговор, а с ним и носы» (21). Уникальность случая с авральной работой состоит в том, что в нем сочетаются сразу несколько типов пояснения из выделенных нами
(встроенное в диалог и вынесенное за пределы повествования). Кроме того, здесь Гончаров демонстрирует читателю и работу по усвоению нового слова путем его многократного повторения, о завершении этой работы можно судить по ироничному контексту последнего примера. Возможно, такое внимание со стороны автора именно к этому сочетанию можно объяснить тем, что оно встречается практически на первых страницах произведения и работа с ним призвана показать интерес автора к слову, привлечь читателя к совместной деятельности по усвоению новой лексики как части общепознавательного процесса. Эта лексикологическая и лексикографическая работа Гончарова в очерках путешествия «Фрегат “Паллада”» подтверждает мысль о том, что без усвоения слова полноценный культурный обмен становится невозможным.
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-34-01028.
Список литературы Неизвестные и малоизвестные номинации в очерках путешествия И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”»
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.; СПб., 1880-1882.
- Петрова З. М. Язык русской ботанической науки XVIII века//Очерки по исторической лексикологии русского языка. Памяти Ю. С. Сорокина. СПб.: Наука, 1999. С. 40-54.
- Проценко Е. Г. Литература «путешествий» в России в 1840-1850-е годы: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. Л., 1984. 18 с.
- Словарь русского языка XVIII в. Л.; СПб.: Наука, 1984-.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. М.: Наука, 1975-.