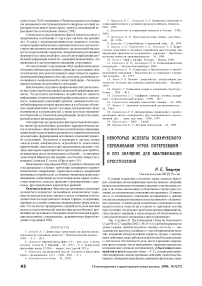Некоторые аспекты психического переживания угроз потерпевшим и его значение для квалификации преступлений
Автор: Токарчук Р.Е.
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Психология правонарушающего поведения
Статья в выпуске: 3 (27), 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14988641
IDR: 14988641
Текст краткого сообщения Некоторые аспекты психического переживания угроз потерпевшим и его значение для квалификации преступлений
тане и более 70,0% воевавших в Чечне находятся в состоянии так называемого посттравматического синдрома, который характеризуется приступами страха, тревоги, повышенной агрессивностью и вспышками гнева (6,282).
Совокупность рассмотренных фактов свидетельствует о напряженном положении в структуре органов внутренних дел. В связи с неукомплектованностью кадрового состава, низким профессионализмом, некомпетентностью, несоответствием интенсивности милицейского труда штатной численности подразделений, социально-экономическим положением формируется стрессовый фон, способствующий профессиональной деформации личности, «депрофессионализации», что проявляется в деструктивном поведении сотрудников.
Осуществление сотрудниками ОВД профессиональных обязанностей непосредственное, приводит к истощению психологических ресурсов внутреннего мира личности, нервнопсихической напряженности и, как следствие, различным отклонениям в эмоциональной и личностной сфере - базовыми предпосылками деструктивного поведения.
Неизбежным следствием профессиональной деятельности выступают проблемы профессиональной деформации личности. Это результат негативного воздействия на личность информации, сопровождающей профессиональную деятельность, социальных отношений, проблем, зависимостей в служебной иерархии, которые преломляются в субъектно-объектных характеристиках среды, ситуации, поведенческих актах подчиненных и руководителей, а также результат нормативно-объектной и субъектной детерминации личности в конкретный момент жизнедеятельности.
«Воздействие экстремальных факторов боевой обстановки, минно-фугасной войны, различных террористических актов и связанные с ними физическое и психическое перенапряжение являются источником развития состояний психической дезадаптации, формирования негативных изменений личности сотрудников. Пессимизм и недоверие к другим, потеря смысла жизни, конфликтность, агрессивность, поиск новых приключений, алкоголизм и другие негативные явления - вот лишь некоторые характеристики стрессогенных расстройств, возникающих после экстремальных событий», - из интервью заместителя Министра внутренних дел России генерал-полковника Соловьева Е. газете «Щит и меч» (19).
Выполнение сотрудниками ОВД служебных обязанностей в экстремальных условиях: требующих повышенного нервнопсихического напряжения; характеризующихся депривацей жизненных потребностей, глубокими эмоциональными переживаниями, влияющими на экзистенциальные сферы (личностные ценности, смыслы) приводит к формированию стрессовых, фрустрационных и кризисных реакций.
Основные выводы. Феномен деструктивного поведения должен быть подвергнут дальнейшему комплексному теоретико-методологическому анализу в целях уточнения и обогащения области теоретического знания о форме, содержании, причинах и условиях социально неприемлимых форм поведения. Что позволит сформировать единый методологический подход к психологической диагностике разнообразных проявлений деструктивного поведения, психологической коррекции агрессивных, суицидальных, делинквентных форм поведения сотрудников ОВД.
ЛИТЕРАТУРА
-
1. Алексеев В. Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития личности // Психологический журнал. -1984. - Т. 5. - № 5.
-
2. Антология мировой философии: в 4 т. / ред.-сост. и автор вступит, статьи И. С. Нарский. - М., 1971. - Т. 3: Буржуазная философия конца XVIII в. - первых двух третей XIX в.
-
3. Антология средневековой мысли: Теология и философия Европ. средневековья: в 2 т. - СПб., 2001. - Т. 1.
-
4. Аналитический обзор. - М., 2004.
-
5. Афанасьев В. С., Гилинский Я. И. Девиантное поведение и социальный контроль в условиях кризиса российского общества. -СПб., 1995.
-
6. Девиантность и социальный контроль в России. - СПб., 2000.
-
7. Дружинин В. Н. Психодиагностика общих способностей. - М., 1996.
-
8. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социальный этюд. - М., 1994.
-
9. Закалюк А. П., Коротченко А. И., Москалюк Л. И. Допре-ступное поведение и механизм совершения преступления при нарушении критичности пограничного характера // Проблемы изучения личности правонарушителя. - М., 1984.
-
10. Камю А. Миф о Сизифе. Бунтарь. - Минск, 1998.
-
11. Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Социодинамическая психиатрия. - Москва-Екатеринбург, 2000.
-
12. Кудрявцев В. Н. Социальное и биологическое в антиобщественном поведении// Биологическое и социальное в развитии человека. - М., 1977.
-
13. Лысак И. В. Человек - разрушитель: деструктивная деятельность человека как социокультурный феномен. - Таганрог, 1999.
-
14. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура// Социс. - 1992. - № 3.
-
15. Скороходова А. С. Граффити: значение, мотивы, восприятие // Психологический журнал.- 1998. - № 1.
-
16. Современная западная социология: словарь. - М., 1990.
-
17. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. -М., 1994.
-
18. Харитонова И. В. Дизадаптивные проявления у людей с различным типом темперамента при эмоциональном стрессе: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - СПб., 1997.
-
19. Щит и меч. - 2003. - 1 нояб.
-
20. Ярошевский М. Г. История психологии. - М., 1985.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХИЧЕСКОГО
ПЕРЕЖИВАНИЯ УГРОЗ ПОТЕРПЕВШИМ
-
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Р. Е. Токарчук
Омская академия М ВД России
В теории и практике уголовного права одним из факторов, влияющих на квалификацию насильственных хищений, является психическое отношение к насилию участвующих сторон, и не только насильника (субъективная сторона преступления), но и психическое отношение потерпевшего. В зависимость от психического отношения потерпевшего к деянию поставлена оценка интенсивности так называемого «психического насилия». В наше время психическое отношение потерпевшего нельзя отнести ни к одному из признаков состава преступления, что рождает проблемы при квалификации насильственных хищений, а также вопросы об обоснованности учета психического отношения к ним потерпевшего.
Так, в пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» указано, что если: «... завладение имуществом соединено с угрозой применения насилия, носившей неопределенный характер, вопрос о признании в действиях лица грабежа или разбоя необходимо решать с учетом всех обстоятельств дела: места и времени совершения преступления, числа нападавших, характера предметов, которыми они угрожали потерпевшему, субъективного восприятия угрозы (выделено нами. -Р. Т.), совершения каких-либо конкретных демонстративных действий, свидетельствовавших о намерении нападавших применить физическое наси- лие, и т. п.». Как видно из этой рекомендации, все указанные обстоятельства дела, в том числе субъективное восприятие потерпевшего могут свидетельствовать о намерении нападавших применить физическое насилие. Иначе говоря, могут служить доказательствами для формирования у правоприменителя убеждения о наличии намерения нападавших применить физическое насилие определенной интенсивности и, как следствие, уверенности в правильности той или иной квалификации.
В пункте 23 данного Постановления восприятие потерпевшим предмета, с использованием которого в отношении него высказывается угроза, судом ставится на первое место и служит причиной для квалификации насильственного похищения в качестве разбоя. Указанный пункт гласит: «Если лицо лишь демонстрировало оружие или угрожало заведомо (выделено нами. - Р. Т) негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия, например макетом пистолета, игрушечным кинжалом и т. и., не намереваясь использовать эти предметы (выделено нами. -Р. Г.) для причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, его действия (при отсутствии других отягчающих обстоятельств) с учетом конкретных обстоятельств дела следует квалифицировать как разбой, ответственность за который предусмотрена частью первой статьи 162 УК РФ, либо как грабеж, если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия». Убежденность потерпевшего в том, что угрозы, высказываемые в его адрес, представляют реальную опасность для его жизни, психическое переживание их реальности, на основании наличия «определенной» угрозы, становится признаком, который перевешивает в указанной квалификации, находящиеся на другой чаше весов объект и субъективную сторону основного состава разбоя. Некоторые исследователи идут дальше и, основываясь на психическом восприятии потерпевшего, намерении виновного использовать угрозу как средство хищения и осознании им того, что потерпевший воспринимает угрозу как реальную, делают вывод, что даже использование имитации оружия, которым причинение вреда невозможно, следует квалифицировать как разбой с использованием предметов, применяемых в качестве оружия (3,105-107).
Согласно данной позиции, вызванной потребностями практического применения сложных законодательных конструкций составов разбоя и насильственного грабежа, угроза, по мнению виновного, должна обеспечить успешное завершение хищения, при этом ее реальности в объективном смысле этого слова не требуется (2, 69-70, 85; 7, 77-78, 80-82). Угрозы разнообразного свойства являются формами психического принуждения, которыми виновный стремится вызвать страх, ужас, парализующий волю потерпевшего. Любая угроза представляет собой для потерпевшего объективно существующую реальность, воздействующую на него как внешний раздражитель, вызывающий у него различные ощущения, представления, которые вызывают восприятие их потерпевшим как угрозу для своих интересов или благ. Преступник, угрожающий потерпевшему какими-либо лишениями, основное внимание уделяет фактору устрашения и стремится к тому, чтобы вызвать у потерпевшего чувство страха, привести его в такое состояние, при котором виновный мог бы добиться желаемой цели. Сила и глубина страха зависят от психических свойств личности, эмоциональных особенностей потерпевшего, типа его нервной системы, сильной или слабой эмоциональной возбудимости (6,9). Учет психического отношения потерпевшего к деянию должен быть конкретным и последовательным.
Отсутствие последовательной оценки психического переживания потерпевшим объективной стороны нападения ведет к сложностям в квалификации. Так, интерес для квалификации представляет ситуация использования при хищении угрозы газовым пистолетом с неопасным для здоровья газом. В этом случае, если виновный угрожал им, не раскрывая его свойств, деяние, согласно рекомендациям суда, будет ква лифицировано как простой разбой. Если же виновный после угроз выстрелил потерпевшему в лицо (например, по причине попытки оказать сопротивление), нейтрализовав его на время, то деяние станет насильственным грабежом, так как поражающие свойства газового пистолета, установленные экспертизой, не позволят признать данное насилие опасным для здоровья. Потерпевший получил возможность понять свойства указанного оружия как газового, а не боевого, что фактически превратило нападение, опасное для жизни или здоровья, в нападение, не опасное для указанных благ. Предложенные судом рекомендации квалификации насильственных хищений, без последовательного учета психического отношения потерпевшего не могут не вызвать серьезные возражения, а сами реальные ситуации - различные решения на практике. Указанные рекомендации основаны на недостаточной законодательной оценке психического отношения к деянию потерпевшего, реализованной в нормах УК России.
На наш взгляд, «театральная» угроза макетом вместо оружия никоим образом не свидетельствует о той общественной опасности, которой наделен современный состав разбоя в УК РФ. Более того, указанная ситуация является ярким свидетельством отсутствия в личности преступника той дерзости и повышенной опасности, которые отделяют разбойника от грабителя, разбой - от грабежа. «Совершенно очевидно, что лицо, которое совершает разбой, используя при этом макет оружия, а не подлинное оружие или предметы, его заменяющие, не намеревается причинить вред здоровью или жизни потерпевшего» (7, 78). Наказание за угрозу в разбое наступает лишь ввиду возможности причинения вреда личности, которым виновный угрожает, а вред, причиняемый психике, здесь ни причем.
Отсутствие самостоятельного изучения субъективного восприятия потерпевшим действий виновного, его места и значения в качестве признака состава преступления ведет к недостаткам законодательных конструкций уголовного права и их применения в процессе квалификации. В разбое значение психического восприятия потерпевшим действий виновного поставлено выше значения объекта и субъективной стороны этого состава. Причиной этого является не только недостаточное внимание к потерпевшему и его субъективному отношению к поведению виновного, но и недостатки конструкции насильственных хищений в части учета альтернативных способов хищения - насилия иугрозы насилием одновременно в одном составе. Данные способы совершения преступлений имеют самостоятельную динамику воздействия на потерпевшего и объект этого воздействия: с одной стороны, организм человека, а с другой - его психика соответственно. Указанные характеристики свидетельствуют о существенном различии в степени общественной опасности.
Наиболее последовательна и понятна позиция законодателя по отношению к исследуемым альтернативным способам хищения в составе вымогательства, где угроза насилием и другие формы психического принуждения использованы при конструировании самостоятельного (ч. 1 ст. 163 УК РФ) от реального насилия (физического принуждения) состава вымогательства. Основным требованием при квалификации простого вымогательства определяют наличие намерения виновного добиться получения имущества именно посредством угрозы, содержание же, реальность и наличность угроз поставлены под влияние их психической оценки потерпевшим. Желание виновного осуществить или не осуществить свою угрозу для данного состава значения не имеет (4,485).
Последовательна позиция исследователей по отношению к психическому принуждению в шантаже. В этом деянии несущественно, считал ли в действительности потерпевший сведения, распространением которых ему угрожают, позорящими, так как в положительном случае шантажист не ошибся, а в отрицательном - налицо фактическая ошибка субъекта (шантажиста), которая не устраняет умысла и только превращает деяние в неоконченное, т. е. в покушение на шантаж (1,189; 7,134; 8,71).
В учении о составе преступления отсутствует учет психического отношения потерпевшего к деяниям и их последствиям. Между тем так как потерпевшим любого насильственного хищения и преступления против личности являются индивидуум либо их совокупность, отсутствие оценки его (их) отношения к конкретному деянию, в частности угроз, в насильственном хищении представляется непоследовательной. Угрозы разнообразного свойства являются формами психического принуждения, которыми виновный стремится вызвать страх, служащий зачастую достаточным психическим мотивом, подчиняющим поведение потерпевшего преступной воле виновного. Психическое восприятие и мнение потерпевшего - субъективное его отношение к угрозам, должны служить одним из признаков, посредством которых определяется тождество между деянием и составом преступления, а также одним из оснований для конструирования составов. Следует учитывать: воспринял ли потерпевший угрозы как реальные или нет, так как в первом случае психическое принуждение состоялось - деяние окончено, а во втором нет - деяние не окончено, но имело место покушение. При установлении тяжести и степени опасности психического принуждения следует исходить не только из характера поведения виновного, свидетельствующего о направленности его умысла на причинение определенного вреда и реально причиненного вреда психике, но и из непосредственного восприятия угроз потерпевшим, его переживаний и степени подверженности влиянию угроз.
Таким образом, при оценке угроз любого содержания (психического принуждения) в качестве способа совершения преступления следует учитывать то восприятие потерпевшего, которое имело место, и квалифицировать деяние с учетом этого восприятия наравне с другими признаками состава преступления.
Список литературы Некоторые аспекты психического переживания угроз потерпевшим и его значение для квалификации преступлений
- Волков Г.И. Имущественные преступления. -Харьков, 1928.
- Вьюнов В.М. Разбой: уголовно-правовая характеристика (Электронный ресурс): дис. канд. юрид. наук. -М., 2003.
- Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. -М., 1997.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практикой/под общ. ред. С.И. Никулина. -М., 2001.
- Костров Г.К., Хадисов Г.Г. Спорные вопросы квалификации вымогательства//Правовое регулирование социалистических общественных отношений. -Махачкала, 1983.
- Левертова Р.А. Ответственность за психическое насилие по советскому уголовному праву: учебное пособие. -Омск, 1978.
- Никитин Е.В. Корыстно-насильственные преступления против собственности: дис. канд. юрид. наук. -Омск, 2002.
- Шпаковский С.Н. Насилие как способ совершения вымогательства (по материалам Уральского региона): дис. канд. юрид. наук. -Челябинск, 1999.