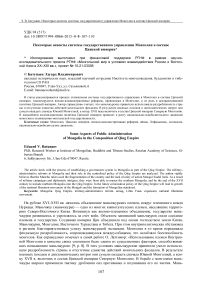Некоторые аспекты системы государственного управления Монголии в составе Цинской империи
Автор: Батунаев Эдуард Владимирович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: История. Философия
Статья в выпуске: 8, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается процесс становления системы государственного управления в Монголии в составе Цинской империи. Анализируются военно-административные реформы, проводимые в Монголии, и их роль в централизованной политике Цинской империи. Автор справедливо считает, что маньчжурские правители использовали раздробленность страны и отсутствие единства действий монгольских феодалов. В результате военных походов и дипломатических интриг они сумели овладеть сначала Южной Монголией, а концу XVII века включить в состав Цинской империи Северную Монголию. В дальнейшем колонизационная политика Цинской империи приведет к росту национально-освободительного движения монголов и становлению монгольской государственности.
Монголия, цинская империя, военно-административная реформа, аймак, лифаньюань, экспансия, национально-освободительное движение
Короткий адрес: https://sciup.org/148183057
IDR: 148183057 | УДК: 94 | DOI: 10.18097/1994-0866-2015-0-8-107-110
Текст научной статьи Некоторые аспекты системы государственного управления Монголии в составе Цинской империи
На рубеже XVI–XVII вв. началось объединение маньчжурских племен, вокруг племенного вождя Нурхаци. Маньчжоу (маньчжуры) — одно из многих южнотунгусских племен, населявших территорию Северо-Восточного Китая. Возникнув как военно-племенное объединение, государство маньчжуров развивалось и укреплялось за счет войн. Объектом завоеваний маньчжуров стали соседние племена и государства. Созданная империя Цин объединила под своим господством земли Китая, Маньчжурии, Монголии, Восточного Туркестана и Тибета. При этом внутриполитическая обстановка в регионе благоприятствовала успеху маньчжурской экспансии. Монголия в то время переживала феодальную раздробленность, сопровождавшуюся междоусобицами, что ослабляло боеспособность монголов. Как справедливо отмечает в своей работе О. Латтимор: «Использование племен Внутренней Монголии в качестве своих союзников было одним из существенных факторов, способствовавших возвышению маньчжуров» [9, р. 8]. В этих условиях маньчжурские правители умело использовали раздробленность страны и отсутствие единства действий монгольских феодалов. В результате военных походов и дипломатических интриг они сумели овладеть сначала Южной Монголией, а концу XVII в. включить в состав Цинской империи Северную Монголию. В борьбе с монголами маньчжуры широко применяли тактику дробления сил противника и подчинения его по частям. Мань- чжурский правитель Нурхаци говорил: «Монголы подобны этим облакам. Облака соберутся вместе — идет дождь. Монголы соберутся вместе — становятся войском. Если они рассеются, произойдет то же, что и с разошедшимися облаками, — дождь прекратится. Дождавшись, когда они рассеются, мы должны преследовать и хватать их» [3, c. 35].
По мнению В. С. Мясникова и Н. В. Шепелевой, «маньчжуры активизировались в тот момент, когда восточные монголы переживали процесс этнической дивергенции, который ранее привел к вычленению и даже противостоянию групп, западномонгольской (ойраты) и восточномонгольской, а в начале XVII в. разделившей Восточную Монголию на Северную (Халха) и Южную Монголию» [6, c. 130].
В целом стоит отметить, что методы цинской дипломатии представляли собой сплав норм и методов, которые практиковались маньчжурской дипломатией (клятвы о союзе и дружбе, разобщение противника, использование в своих интересах одних против других), с нормами и правилами традиционной китайской дипломатии (пожалование императором титулов иноземным властителям, регулярная дань ко двору императора как знак вассальной зависимости иноземного правителя).
Вместе с тем китаецентристская идеология императоров «Срединного государства», заимствованная цинским маньчжурским правительством, служила основой внешней политики. Согласно этой концепции все страны, завоеванные династией Цин, рассматривались как данники, обязанные беспрекословно им подчиняться. Это приводило к обоснованию права Цинской империи на «усмирение» вооруженной рукой народов сопредельных стран, права на территориальные захваты. Так, в 1691 г. на Долоннорском съезде состоялось официальное включение Северной Монголии (Халхи) в состав Цинской империи. В XVI–XVII вв. самоназвание Внешней Монголии было Халха — семь халхаских хошунов. Поэтому названия «Внешняя Монголия» и «Халха» мы будем употреблять в нашем исследовании как синонимы.
С другой стороны, известный русский дипломат И. Я. Коростовец утверждает, что «значение съезда в Долонноре как акта, определившего юридический статус Монголии, представляется довольно спорным. Китайцы говорили, что сейм утвердил вассальную зависимость Монголии от Китая, а монголы — что на сейме если и была принесена присяга на верность, то она имела персональный характер и относилась лишь к маньчжурам, а не к китайскому правительству. Более того, решения сейма не были закреплены письменным актом, следовательно, здесь можно говорить о международно-правовом обычае, а не международном договоре» [5, c. 34]. В результате окончательного разгрома Джунгарского ханства во второй половине XVIII в. вся территория Монголии стала одной из окраинных частей Цинской империи. Интересно отметить, что историки по-разному подходят к вопросу покорения маньчжурами Монголии.
По мнению А. В. Попова, «Монголия интересовала маньчжурских правителей как возможный союзник, способный содействовать осуществлению их захватнических планов» [7, c. 90]. К союзу с монголами маньчжурских правителей мог подтолкнуть такой фактор, как сходство доктрин государственности, культурных традиций, которые, в свою очередь, отличались от соответствующих идеологических представлений традиционного Китая.
В то же время сюзеренитет маньчжурского хана монголы и китайцы понимали по-разному. Для монголов он означал не вхождение в чужое государство, а лишь очередной переход под власть более сильного хана. Китайцы же, наоборот, считали навечно подчинившимися любые народы, кто хоть раз признал сюзеренитет их правителя или просто прислал посольство, а подарки своему императору трактовали как дань.
Как справедливо отмечает Б. В. Базаров, «истощенные в междоусобной войне монголоязычные племена и народы вставали под знамена и стяги мощно поднимающихся государств. Двойной интерес заключался в том, что эти народы перестали нести в себе потенциал реальной угрозы и вместе с тем, вгрызаясь в отведенное им пространство, они превращались в мощную заставу на оголенных рубежах государства, образуя тем самым живой естественный заслон на огромном протяжении границы» [1, c. 28].
Вассальная зависимость монгольских ханов выражалась в выплате ежегодной дани в размере так называемых девяти белых. Нужно сказать, что в первоначальном понимании дань была в большей степени номинальной и считалось подношением младшего — старшему, низшего — высшему, символизировало преданность, почтение, уважение. В дальнейшем согласно императорскому указу кроме традиционной ежегодной дани из «девяти белых» была введена дань по состоянию от всех монгольских князей. С другой стороны, взамен за послушание и верность «монгольские феодалы полу- чали от маньчжурского императора различные награды и вознаграждения (2000–2500 ланов) серебра и 26–40 кусков материи» [8, c. 351].
В конце XVIII — середине XIX в. цинскими властями на территории Монголии была проведена военно-административная реформа, вобравшая в себя все черты традиционной китайской системы власти. Они взяли на вооружение и в полной мере использовали китайскую бюрократическую систему управления государством. Маньчжуры сохранили прежнюю систему административно-территориального устройства Монголии, которая делилась на хошуны и аймаки. В 1692 г. маньчжуры разделили Внешнюю Монголию (Халху) на три аймака: аймак Тушету-хана, аймак Цецен-хана, аймак Дзасакту-хана. Кроме того, цинское правительство ликвидировало власть монгольских ханов, оставив им только ханские титулы. Как известно, одним из важнейших средств к ослаблению власти ханов и князей явилось дробление ханств и княжеств. В административно-территориальном отношении хошуны делились на сомоны, а последние, в свою очередь, — на баги. К этому времени количество хошунов значительно возросло. Так, в 1725 г. из аймака Тушету-хана был выделен особый, четвертый аймак — Сайн-Ноёна.
Во главе аппарата управления в Монголии стоял маньчжурский император, носивший титул богдыхана. Только он обладал исключительным правом присваивать или лишать монгольских князей их титулов и званий, назначать или смещать с государственных должностей. Центральным правительственным органом, осуществляющим высшую законодательную и административную власть над Монголией, была Палата внешних сношений (Лифаньюань).
В функции Лифаньюаня входило: издание законов, установление порядка наследования титулов, заведование выдачей денежного содержания, утверждение правил приезда ко двору в новогоднюю высочайшую аудиенцию, принесения правителями дани, установление правила сбора сеймов правителей внешних вассальных территорий, упорядочивание судопроизводства. В непосредственном подчинении Лифаньюаню находились императорские наместники — великий цзяньцзюнь (генерал-губернатор) с резиденцией в Улясутае, ведавший в том числе и делами двух западных аймаков (Дза-сактуханского и Сайнноёнханского), а также два его помощника (амбаня), управлявшие двумя восточными аймаками (Тушетуханским и Цэцэнханским), с резиденцией в Урге. Также с 1762 г. была введена должность хэбэй-амбаня, который, в свою очередь, управлял пограничным округом из города Кобдо. Кроме того, маньчжурские правители установили для монгольских феодалов новые звания и табель о рангах. Сохранив титул ханов, они учредили шесть княжеских степеней, которым дали маньчжурские наименования. Им могли присваиваться следующие титулы: цин ван (князь 1-й степени), цзюнь-ван (князь 2-й степени), бэйлэ (князь 3-й степени), цзюнь-ван (князь 4-й степени), туше-гун (князь 5-й степени), гун (князь 6-й степени) [2, c. 10].
В то же время внутреннее управление Северной Монголией было передано четырем сеймам, которым был придан организованный характер, но под управлением уже не ханов, а особых, избираемых из князей сейма старшин (даруг). В связи с этим ханы потеряли свое политическое влияние и ханский титул сохранился лишь как почетное звание. Причем каждый из четырех ханов Халхи (Дзасакту-хан, Тушету-хан, Цэцэн-хан, и Сайн-Ноён-хан) управляет с этого времени лишь своим личным хошуном и стоит наравне с прочими князьями Монголии. После покорения Джунгарии маньчжуры еще более подчинили Монголию своему влиянию. С этого времени Улясутайскому цзянь-цзюню (главнокомандующему войсками внешней Монголии. — Б. Э. ) были переданы также функции надзора за гражданским управлением, в Кобдо и Урге были учреждены должности амбаней.
Таким образом, сложная система различий и привилегий должна была затруднить объединение монгольских князей и перевести их на положение чиновников, благополучие которых целиком зависело от расположения и милости императора. Как отмечает И. Я. Златкин, «все правители княжеств стали непосредственно подчиняться маньчжурскому императору, а ханы Халхи стали в один ряд с прочими правителями княжеств, пользуясь одинаковыми с ними правами и привилегиями» [4, c. 59]. Отсюда делаем вывод, что ранее независимые и обладавшие самостоятельностью монгольские князья и ханы вступили в вассальные отношения и стали подданными цинского императора. Монголия в составе маньчжурской империи была ее географической окраиной. Тем самым данный факт во многом определил, на наш взгляд, функции монголов по отношению к Цинской империи, главная из которых состояла в охране границ. Выполнению этой задачи были подчинены обязанности монголов: укомплектование людьми и скотом, содержание караулов и уртонов, выпас скота, принадлежащего императору, комплектование и снабжение армии в походе и на сборах. В начальный период цинского господства старая маньчжурская политика препятствовала проникновению в Монголию китайской торговой и земледельческой колонизации. Эти ограничения маньчжурского правительства, вводимые в целях ограждения населения Монголии от торговой эксплуатации и экономического порабощения их китайцами, служили до второй половины 18-го столетия большим тормозом к оседанию последних севернее Великой Китайской стены.
Список литературы Некоторые аспекты системы государственного управления Монголии в составе Цинской империи
- Базаров Б.В. Чингисхан и исторические проблемы монголосферы//Чингисхан и судьбы народов Евразии: материалы междунар. науч. конф. (Улан-Удэ, 3-5 октября 2003 г.). -Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2003. -С. 24-36.
- Белов Е.А. Россия и Монголия в начале XX в. (1911-1919 гг.). -М.: Ин-т востоковедения РАН, 1998. -235 с.
- Ермаченко И.С. Политика маньчжурской династии Цин в Южной и Северной Монголии в XVII в. -М.: Наука, 1974. -193 с.
- Златкин И.Я. Очерки новой и новейшей истории Монголии. -М.: Изд-во Вост. лит-ры, 1957. -199 с.
- Коростовец И.Я. От Чингисхана до Советской республики (краткая история Монголии с особым учетом новейшего времени). -Улан-Батор: Эмгэнт, 2004. -34 с.
- Мясников В.С. Китай и Монголия//Китай и соседи в Новое и Новейшее время. -М., 1982. -С. 130.
- Попов А.В. Китайская палата внешних сношений, маньчжурские наместники и аймачные власти в Халха-Монголии в середине XVIII -начале XIX в.//Историография и источниковедение стран Азии и Африки. -1990. -№ 13. -С. 189-202.
- Шойжелов С. Монголия и Царская Россия//Новый Восток. -1926. -№ 13-14. -С. 351-363.
- Lattimor O. Nationalism and Revolution in Mongolia. Leiden, 1955. -330 p.