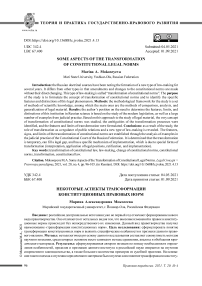Некоторые аспекты трансформации конституционных правовых норм
Автор: Мокосеева Марина Александровна
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Теория и практика государственно-правового развития
Статья в выпуске: 4 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение: российские доктринальные источники уже не первый год отмечают формирование нового вида правотворчества. Оно отличается от остальных видов тем, что внесение изменений и правок в конституционные нормы происходит без непосредственного их изменения. Данный вид правотворчества получил наименование «трансформации конституционных норм». Цель исследования: сформулировать понятие трансформации конституционных норм и выявить специфические особенности и признаки данного правового явления. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы сравнения, анализа и обобщения юридического материала. Результаты: сформулированная автором позиция по поводу необходимости определения особенностей, пределов и признаков данного института в российской науке опирается на изучение современного законодательства, а также большого количества примеров из судебной практики. На основании такого подхода к изучению юридического материала было изучено само понятие трансформации конституционных норм, выявлены неоднозначности трансформационных процессов и сформулированы особенности и пределы трансформации. Выводы: в результате исследования выявлена роль трансформации как регулятора общественных отношений и нового вида правотворчества. Установлены особенности, признаки и пределы трансформации конституционных норм на примере анализа примеров из судебной практики Конституционного суда Российской Федерации. Определено, что трансформация носит временный характер, может восполнить правовой пробел и имеет специфический механизм реализации, который обусловлен особыми формами трансформации (толкование, применение правовых позиций, ратификация и имплементация).
Трансформация конституционного права, правотворчество, изменение конституционных норм, конституционные нормы, трансформация, конституционное право
Короткий адрес: https://sciup.org/149139409
IDR: 149139409 | УДК: 342.4 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2021.4.13
Текст научной статьи Некоторые аспекты трансформации конституционных правовых норм
Л® Айт
DOI:
Правовые нормы являются универсальным регулятором общественных отношений. В современном правовом обществе это один из самых распространенных и типичных способов закрепления наиболее приемлемого варианта поведения граждан того или иного государства. В Российской Федерации каждый год принимается около 2 тыс. правил поведения такого рода. Среди них не только новые нормативно-правовые акты, но и те, в которых внесли изменения, дополнения и поправки. Все эти изменения подлежат обязательному опубликованию в официальных правовых источниках. Так правила поведения становятся обязательными к исполнению, и в некоторых случаях предусматривается ответственность за отклонение от установленных законом вариантов поведения. А что, если законодательные органы власти не всегда принимают необходимые в обществе правила поведения? Ели изменения могут быть приняты без соблюдения традиционной законотворческой процедуры? Если трансформация приведет к преобразованию духа и идейного содержания нормы права?
В.Д. Зорькин, председатель Конституционного суда Российской Федерации, в своей работе «Буква и дух Конституции» высказал интересную мысль о том, что доктрина «живой» конституции позволяет судьям адаптировать заложенный в конституционном тексте смысл к меняющимся реалиям современной действительности [5]. По его мнению, смысл «живой» доктрины заключается в том, что «можно выявлять актуальное значение главного закона в контексте современных реалий, не искажая сути правового смысла, заложенного в его текст». Председатель Конституционного суда Российской Федерации указал на возможность актуализации конституционных нормативных правовых актов посредством каких-то иных процедур, которые, по нашему мнению, можно обобщить понятием «трансформации конституционных норм». Поэтому на указанные выше вопросы можно с уверенностью ответить положительно.
Итак, конституционно-правовая доктрина отмечает появление относительно нового вида правотворчества характера трансформационного [10, с. 88], который отличается от классической процедуры внесения изменений (также дополнений и поправок). Данный вид правотворчества, с нашей точки зрения, и получил наименование «трансформации конституционного права».
К сожалению, доктринальные источники не типологизируют данное явление. До настоящего времени не определены особенности и пределы данного правотворчества. Новый вид правотворчества: трансформации конституционных правовых норм весьма интересное и исключительно важное явление в современной правотворческой жизни. Отметим, что в современном правовом пространстве каждый осознает важность данных процессов, но в средствах массовой информации трансформация практически не освещается.
Отдельные аспекты данного явления уже давно рассматриваются российскими учеными. С.А. Авакьян, Г.Н. Андреева, В.Д. Зорькин, В.О. Лучин, А.В. Мазуров и многие другие описывают механизм совершенствования и развития конституционных норм. Однако только две работы: публикация
Н.Е. Таевой о результатах трансформации норм конституционного права под влиянием решений Конституционного суда 2013 г., и статья М.А. Мокосеевой о природе концепции «молчаливой» трансформации конституционных правовых норм 2018 г., посвящены исследованию трансформационных аспектов конституционных норм. Давайте посмотрим на практике, к чему может привести отсутствие подходов к данному новому правотворческому процессу.
Неоднозначность процессов трансформации
Решения Конституционного суда Российской Федерации относительно избрания высших должностных лиц субъектов Российской Федерации стали наиболее интересными примерами трансформационных процессов конституционных правовых норм. Имеются ввиду решения, датированные разными годами с перерывом в десять лет, это решения 1996 и 2006 годов.
Итак, 1996 год. В этот год Конституционный суд проверяет на конституционность Устав Алтайского края. Высшее должностное лицо края могло избираться не на выборах, а региональным органом законодательной власти на основании Устава. Указанное положение, по мнению Конституционного суда, противоречило ст. 10 Конституции Российской Федерации [24], так как высшее должностное лицо края должно было получать свою должность непосредственно от граждан Алтайского края и перед ними должно отвечать в рамках действующего законодательства [17]. Поэтому наделение правами и избрание региональным парламентом высшего должностного лица края, не соответствует основам конституционного строя, заложенным в гл. 1 Конституции Российской Федерации.
2005 год. По аналогичному делу орган конституционного контроля принимает диаметрально противоположное решение. В этом году Конституционный суд рассматривает федеральный закон от 11 декабря 2004 г. о внесении изменений в федеральные законы об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации [22]. Здесь орган конституционного контроля не находит нарушение норм Основного закона. Суд также проверяет процедуру избрания высшего должностного лица в субъектах Российской Федерации законодательными органами власти региона из кандидатур, предложенных Президентом Российской Федерации. Отметим, что в этом случае народные выборы высших должностных лиц заменялись избранием региональным парламентом. Конституционный суд не выявил нарушения норм Основного закона из-за того, что новый порядок избрания вводился Федеральным собранием Российской Федерации.
Таким образом, Конституционный суд Российской Федерации дважды трансформировал заложенный в конституционных нормах правовой смысл, исходя из политической и экономической целесообразности в определенный исторический период. Не меняя содержание самих конституционных норм, он, по сути, придал противоположное значение [2, с. 107].
Неоднозначность пределов процесса трансформации имела место и в других случаях принятия решений Конституционным судом Российской Федерации [6]. В 2020 г. суд занял иную правовую позицию, отличную от той, которая была им сформулирована в 1998 году.
Напомним, в далеком 1998 г. российские депутаты усмотрели неясность в трактовке ч. 3 ст. 81 Конституции Российской Федерации. Тогда орган конституционной юстиции принял решение в форме определения и мотивировал невозможность нахождения Президента на должности более двух сроков подряд (Определение Конституционного суда РФ по делу о толковании ст. 81 (ч. 3) и п. 3 раздела второго «Заключительные и переходные положения» Конституции Российской Федерации от 5 ноября 1998 г.). Решение было принято для находящегося тогда у власти с 1993 г. Б.Н. Ельцина. Его победа на выборах в 1996 г. ставила вопрос о возможности занятия поста Верховного главнокомандующего повторно. По мнению органа конституционного контроля, после принятия Конституции Российской Федерации 1993 г. Б.Н. Ельцинне уходил в от- ставку и продолжил выполнение своих функций в качестве Президента. Граждане Российской Федерации выразили ему доверие, и этого вполне достаточно для того, чтобы признать продолжающееся нахождение Б.Н. Ельцина в должности новым сроком Президента. Суд сделал вывод о том, что это положение дел вполне вписывается в требования ч. 3 ст. 81 Конституции Российской Федерации.
Теперь вспомним наши дни, а именно март 2020 года. Сегодня орган конституционной юстиции принимает другое решение по аналогичному делу. Здесь решение суда оформляется как заключение. В этом случае в суд обращается сам действующий Президент Владимир Владимирович Путин с запросом и просит проверить конституционность проекта закона поправок к Конституции Российской Федерации. Одна из многочисленных поправок касается нивелирования прежних сроков Президента для лиц уже занимавших эту должность [4]. В своем заключении судьи усмотрели возможность без учета числа сроков в течение которых лицо занимало и/или занимает эту должность на момент вступления в силу «поправок 2020» занимать должность Президента Российской Федерации. Теперь обновленная редакция ст. 81 главного закона страны предоставляет такое право Верховному главнокомандующему. Однако Суд отмечает важность одобрения данной нормы гражданам России на всенародном голосовании, что и было сделано 1 июля 2020 года.
Таким образом, одну и ту же правовую норму, а именно ч. 3 ст. 81 Конституции Российской Федерации, Конституционный суд Российской Федерации трансформирует, меняя заложенный в ней правовой смысл, исходя из условий современного политического развития российского общества. При этом он не изменяет самой конституционной правовой нормы.
Важность изучения такого рода трансформационных процессов обуславливается и тем, что иногда Конституционный суд начинает подменять своими решениями акты органов государственной власти Российской Федерации. Интересным примером является определение Конституционного суда 2009 г., касающееся применения смертной казни в
России [7]. По сути, данное решение подменило собой работу Федерального собрания Российской Федерации. Следующая правовая позиция тогда была сформулирована судом: «… в результате столь продолжительного по времени действия моратория на применение смертной казни в России сформировались устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни. Таким образом в нашем государстве происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания…» [12]. Определение сделало невозможным применение смертной казни в настоящее время, и для этого не потребовалось принятие Государственной думой Федерального собрания соответствующего нормативного правового акта.
Конечно, процесс трансформации позволяет быстро и эффективно урегулировать то или иное общественное отношение в сложной политической обстановке или ситуации экономического кризиса [3, с. 42]. И это, безусловно, является положительным эффектом трансформации, но нельзя не отметить и отрицательный эффект от трансформационной деятельности. Правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации иногда снижают значение отдельных конституционных норм [1, с. 12–21].
Так, например, запрет на проведение референдума по вопросам, которые касаются исключительной компетенции федеральных органов государственной власти Российской Федерации был установлен на основе правовой позиции Конституционного суда. Среди прочего суд признал законным и обоснованным запрет на проведение всенародного голосования по вопросам принятия и изменения федерального бюджета [20]. Правовая позиция была положительно воспринята российским законодателем. Новые изменения, внесенные в закон о референдуме, лишили российских граждан возможности инициировать общероссийский референдум по любому вопросу. Сегодня по всем вопросам, отнесенным к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти Российской Федерации, референдум проводиться не может [1, с. 19–20]. Этот негативный эффект нельзя не отметить.
Особенности и пределы трансформации
Проведенный выше анализ трансформационных процессов в конституционном праве показал особую важность проблемы определения особенностей и пределов трансформации конституционных правовых норм. В связи с этим автор статьи попытался восполнить данный пробел [16, с. 187] и привел некоторые из особенностей этого явления:
-
1. Трансформация может восполнить правовой пробел и разрешить ту или иную правовую коллизию [13, с. 219]. Традиционно правовые пробелы и коллизии восполняются применением права и/или закона по аналогии либо новыми нормативно-правовыми актами. Однако процесс законотворчества в конституционном праве достаточно затруднен и обременен временными ограничениями. В этой связи принятие решений органами конституционного правосудия осуществляется достаточно быстро, что безусловно эффективно. Можно восполнить правовой пробел и разрешить возникшую правовую коллизию быстро и результативно. Конституционный суд в постановлении от 16 июня 1998 г. (о толковании конституционных положении отдельных положений ст. 125, 126, 127 Конституции Российской Федерации) признал за своими решениями о толковании такую же юридическую силу, что и за законами [16].
-
2. Трансформация носит временный характер. Необходимо отметить важность трансформации как механизма восполнения пробелов в нормах права, ее действенность в регулировании вновь возникающих общественных отношений. Трансформация должна быть подкреплена в разумный срок изменениями, дополнениями или принятием акта в установленном законом порядке. Это временный способ нуллификации соответствующего правового пробела или коллизии.
-
3. Трансформация конституционных норм имеет специфический механизм реализации и формы. С моей точки зрения, можно выделить четыре формы трансформации: толкование и применение правовых позиций, осуществляемые Конституционным судом, имплементация решений иностранных судов и ратификация международных правовых актов. Особый порядок реализации трансформации присущ каждой из этих форм. Особый порядок реализации, конечно же, откладывает свой отпечаток и на сам процесс трансформации. Например, в процессе ратификации международных договоров участвует законодательный орган государственной власти Российской Федерации, что закреплено законом о международных договорах [23]. Или, например, процедура имплементации решений иностранных судов, которая требует проверки на соответствие Конституции Российской Федерации. То есть необходима процедура предварительного конституционного контроля.
В своих решениях орган конституционного правосудия создает обязанность для Федерального собрания Российской Федерации принять соответствующие правовые акты и/или положения.
Например, мы хорошо помним, когда он указывал на эту обязанность в делах, касающихся механизма прекращения полномочий
Президента РФ по состоянию здоровья [15] или вопросов, которые могут быть вынесены на референдум [19], а также порядка передачи депутатом своего голоса при осуществлении голосования [18] и мн. др.
Указанную особенность отмечает и Н.Е. Таева, которая указывает в своих работах на необходимость разработки и принятию изменений и дополнений в конституционные нормативные правовые акты правотворческими органами [21, с. 1383].
Еще в 2001 г. было высказано мнение В.О. Лучиным и А.В. Мазуровым [9, с. 85] о появлении трансформационных процессов конституционно-правовых норм, которые связывались с этапами становления правовой системы России после распада советской государственности. Именно тогда, в «девяностые», была обнаружена необходимость осуществления толкования без необходимости внесения соответствующих поправок в законодательство [8, с. 89]. Конечно, в дальнейшем необходимость в данной форме правотворчества должна отпасть, вместе с принятием необходимой нормативно-правовой базы и внесением соответствующих поправок в Основной закон государства. Но, к сожалению, пока об этом говорить рано. Не поддерживают позицию о сокращении трансформацион- ных процессов В.О. Лучина, А.В. Мазурова и другие конституционалисты. Н.Е. Таева также отмечает, что «… трансформация конституционно-правовых норм имеет более широкие границы распространения…» [21, с. 1383].
Однако факт сокращения трансформации подтверждает то обстоятельство, что «…за всю историю существования Конституционного Суда им было принято только 13 решений о толковании Конституции в период с 1995 по 2015 годы» [10, с. 88]. Последним решением такого рода должно стать постановление от 1 июля 2015 г. № 18-П «По делу о толковании статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции Российской Федерации», в котором исследовалась возможность изменения даты выборов депутатов Государственной Думы [14]. Однако в связи с принятием «поправок 2020» к Конституции Российской Федерации, мы можем констатировать факт не остановки трансформации, а лишь только ее нового витка развития.
Выводы
Таким образом, автор статьи делает однозначный вывод о формировании нового вида правотворчества под названием «трансформация».
Трансформация действует параллельно традиционным способам правотворчества и осуществляется в таких формах как: толкование, применение правовых позиций, ратификация и имплементация.
Под трансформацией необходимо понимать изменение смыслового содержания конституционных правовых норм без их текстуальных дополнений и правок.
Трансформация конституционных норм имеет свои особенности и признаки и опосредуется в специфическом механизме ее реализации, обусловленным правовыми формами трансформации.
Список литературы Некоторые аспекты трансформации конституционных правовых норм
- Авакьян, С. А. Свобода общественного мнения и конституционно-правовые гарантии ее осуществления / С. А. Авакьян // Конституционное и муниципальное право. - 2013. - №2 1. - С. 12-21.
- Воробьев, Н. И. Глава исполнительной власти (губернатор) субъекта Российской Федерации: что в перспективе наделение полномочиями (назначение) или всенародные выборы? / Н. И. Воробьев // Социально-экономические явления и процессы. - 2010. - № 4. - С. 107-113.
- Головин, А. Г. К дискуссии о правовой природе актов Конституционного Суда Российской Федерации / А. Г. Головин // Государство и право: вызовы XXI века (Кутафинские чтения) : материалы междунар. науч.-практ. конференции. - М., 2009. -С. 41-48.
- Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации». - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.04.2021).
- Зорькин, В. Д. Буква и дух Конституции / В. Д. Зорькин // Российская газета. - 2018. - № 7689 (226). - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://rg.ru/2018/10/09/zorkin-nedostatki-v-konstitucii-mozhno-ustranit-tochechnymi-izmeneniiami.html http:// sudact.ru/regular/doc/ (дата обращения: 30.04.2021). -Загл. с экрана.
- Комовкина, Л. С. Актуальные проблемы правотворческого процесса федеральных органов исполнительной власти / Л. С. Комовкина // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. - 2016. -№5 (21). - С. 186-189.
- Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г.) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 2. -Ст. 163.
- Краснов, М. А. Толкования Конституции как ее фактические поправки / М. А. Краснов // Сравнительное конституционное обозрение. - 2016. -№ 1. - С. 77-91.
- Лучин, В. О. Толкование Конституции Российской Федерации (Обзор практики Конституционного Суда) / В. О. Лучин, А. В. Мазуров // Право и власть. -2001. - № 1. - С. 85-94.
- Мокосеева, М. А. Концепция «молчаливой» трансформации конституционных правовых норм без внесения изменений, дополнений и поправок в них посредством толкования и применения правовых позиций / М. А. Мокосеева // Правовое государство. - 2018. - № 2. - С. 86-93.
- Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 134-О «По делу о толковании статьи 81 (ч. 3) и п. 3 раздела второго «Заключительные и переходные положения» Конституции Российской Федерации». - Доступ из справ.-пра-вовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.07.2020).
- Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года №2 3-П по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 г. «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» // Собрание законодательства РФ. -2009. - № 48. - Ст. 5867.
- Петров, А. А. Может ли коллизия юридических норм порождать пробел в праве? / А. А. Петров // Вестник Томского государственного университета. - 2018. - № 432. - С. 218-230.
- Постановление Конституционного Суда РФ от 1 июля 2015 г. № 18-П «По делу о толковании статей 96 (ч. 1) и 99 (ч. 1, 2 и 4) Конституции Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2015. - № 1283. - Ст. 4335.
- Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июля 2000 г. № 12-П «По делу о толковании положений статей 91 и 92 (ч. 2) Конституции Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий Президента Российской Федерации в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия» // Собрание законодательства РФ. - 2000. -№29. - Ст. 3118.
- Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о толковании конституционных положении отдельных положений статей 125, 126, 127 Конституции Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. -1998. - № 25. - Ст. 3004.
- Постановление Конституционного Суда РФ от 18 января 1996 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского края» // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №9 4. - Ст. 409.
- Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 1999 г. №2 12-П «По делу о проверке конституционности Федерального закона от 15 апреля 1998 года «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 1999. -№30. - Ст. 3989.
- Постановление Конституционного Суда РФ от 21 марта 2007 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 6 и 15 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» в связи с жалобой граждан В. И. Лакеева, В. Г. Соловьева и В. Д. Уласа» // Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 14. -Ст. 1741.
- Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12-П «По делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 45. -Ст. 4408.
- Таева, Н. Е. Трансформация норм конституционного права под влиянием решений Конституционного Суда РФ / Н. Е. Таева // Lex Russica. -2013. - Т. 95, № 12. - С. 1383-1387
- Федеральный закон от 11 декабря 2004 г. № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2004. -№ 50. - Ст. 4950.
- Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. -1995. - № 29. - Ст. 2757.
- Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 42. - Ст. 5005.