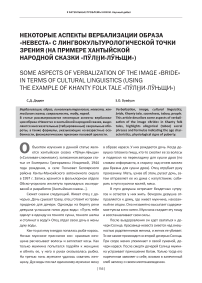Некоторые аспекты вербализации образа «невеста» с лингвокультурологической точки зрения (на примере хантыйской народной сказки «Пўли-лўњщи»)
Автор: Дядюн Светлана Даниловна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Научный дебют
Статья в выпуске: 2 (28), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые аспекты вербализации образа «Невеста» в хантыйской народной сказке, выделяются иносказательные (табуированные) сакральные обороты, а также формулы, указывающие на возрастные особенности, физиологические признаки половой зрелости.
Вербализация, образ, лингвокультурология, невеста, хантыйская сказка, сакральность, табу, народ
Короткий адрес: https://sciup.org/144153924
IDR: 144153924
Текст научной статьи Некоторые аспекты вербализации образа «невеста» с лингвокультурологической точки зрения (на примере хантыйской народной сказки «Пўли-лўњщи»)
Вербализация, образ, лингвокультурология, невеста, хантыйская сказка, сакральность, табу, народ.
Verbalization, image, cultural linguistics, bride, Khanty tale, sacredness, taboo, people. This article describes some aspects of verbalization of the image «Bride» in Khanty folk tales, highlights allegorical (taboo) sacral phrases and formulas indicating the age characteristics, physiological signs of puberty.
В статье рассматриваются некоторые аспекты вербализации образа «Невеста» в хантыйской народной сказке, выделяются иносказательные (табуированные) сакральные обороты, а также формулы, указывающие на возрастные особенности, физиологические признаки половой зрелости.
О бъектом изучения в данной статье является хантыйская сказка «Пўлӈи-лўњщи» («Сопливая-слюнявая»), записанная автором статьи от Екатерины Григорьевны Иныревой, 1944 года рождения, в селе Полноват Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа в 1997 г. Запись хранится в фольклорном отделе Обско-угорского института прикладных исследований и разработок [Хантыйская сказка...].
Сюжет сказки следующий. Живет отец с дочерью. Дочь срывает траву, отец готовит из травы приданое для дочери. Однажды на берегу реки девушка услышала голос духа воды: «Пусть тебя оденут в одежду из тонкого сукна, тонкого шелка и столкнут в воду!» Отец отдал свою дочь в жены духу воды.
Как-то раз ему в ведро попалась рыба-карась. Ночью мужчине приснился сон: красивая женщина расчесывает волосы и заплетает косы. Как только мужчина попытался подойти к женщине и обнять ее, у него в руках оказывалась рыбка. На третью ночь мужчине удалось схватить женщину. Дух воды послал одинокому мужчине жену в образе карася. У них рождается дочь. Когда девушка готовила пищу, кто-то схватил ее за волосы и подвесил на перекладину для сушки дров (по словам информанта, в старину над огнем висело два бревна для сушки дров). Отец отрубает руку проказнику. Мать, узнав об этом, ругает дочь, затем отправляет ее из дома с напутствием: собирать в пути кусочки костей, мяса.
В пути девушка встречает бездетных супругов и остается у них жить. Вечером девушка отправляется к дому, где живет мужчина, наказанный ее отцом. Она незаметно высыпает содержимое туеска в его котел. Мужчина съедает эту пищу и восстанавливает свои силы.
После выздоровления он едет свататься к дочери Солнца. Красавица-невеста смеется над внешностью родственников жениха, и жених ее убивает. То же самое происходит со второй дочерью Солнца. При ссоре жених упоминает о своей суженой, дочери карася. После смерти дочерей Солнца мужчина устраивает приношение богам. Только тогда его нареченная заявляет о себе, вложив в запеченный хлеб записку о своем местонахождении.
Задача нашей статьи – выделить в сказке иносказательные (табуированные) сакральные обороты, формулы, указывающие на возрастные особенности, физиологические признаки половой зрелости.
Чтобы проанализировать понятийные составляющие концепта «Невеста», обратимся к значению и происхождению основного репрезентанта этого концепта в хантыйском языке – слову мењ . В родственных языках обнаруживаются следующие параллели: в венгерском языке – menyasszony «невеста», в коми-зырянском – монь «невеста», в мансийском – маньнэ (лексема мань – в мансийском языке имеет значение «молодой»).
Основным способом языковой объективации номинанта в хантыйском языке являются слово мењ и сочетание мењнэ «девушка, вступающая в брак, или девушка, достигшая брачного возраста», эксплицирующие половую зрелость женщины – нє ԓуваттыйа йис «девушка, достигшая половой зрелости» (букв.: стала возраста женщины). Кроме этих номинантов, в сказке присутствуют контекстные синонимы: эвийэ «девушка», йивԓы-ӑсԓы эвийэ «девушка без роду, без племени»; нєӈийэ «женщина».
В изучаемом тексте «Пўлӈи-лўњщи» представлено четыре образа невесты: 1) невеста духа воды; 2) невеста отца; 3) невеста – дочь Солнца; 4) сама героиня.
Невеста духа воды взята в жены против своей воли и воли своего отца. Н.В. Лукина дает подробное описание этого духа: «Более значительным является водяной дух. Он может проживать в любом водоеме. В воде у него город, населенный многими жителями, и имеются дети. По бытующим воззрениям, водяной дух и водяной царь дают людям рыбу, но первого можно просить и о лесной добыче; для того и другого устраивают жертвоприношения…» [Лукина, 1990, с. 17].
Когда девушка отправилась за водой, дух воды, сватаясь к ней, произнес: Ма тўшԓам эвәԓт, – лупәԓ, – сөхтәм өхәԓ нөй, өхәԓ йєрмака ат ԓөмәԓтәԓыйән па тыв нык ат төԓыйән, нык ат пөхәԓмәԓыйән «Из моей бороды изготов-ленно для тебя тонкое сукно, тонкий шёлк, пусть в него оденут тебя, приведут сюда к берегу и столкнут в воду».
Водный дух задал задачу, и, исходя из этого, следует брак против воли отца и его дочери: Ащэԓ лупәԓ: «Көртэн көрт шөпа вєрԓєм, вошэн вош шөпа вєрԓєм» «Отец разозлился: “В деревне оставлю людей половину, в городе оставлю в живых людей половину”». По сюжету осуществляется обмен невестами: отец отдает свою дочь духу воды, взамен получает в жены невесту в образе рыбы-карася. Как отмечает В.В. Дегтярева, «с рыбой связана тема смерти и воскрешения… Во всех перечисленных случаях рыба выступает в роли эквивалента нижнего мира, т. е. царства мертвых, где необходимо побывать, чтобы воскреснуть к новой жизни» [Дегтярева, 2010, с. 217].
Третья невеста – дочь Солнца. В тексте сказки реализуется тема противостояния между дочерью Солнца и народом жениха.
Четвертая невеста – главная героиня; связанная с ней сюжетная линия символизирует поиск нареченного жениха.
По этическим нормам хантов мужчине строго запрещалось прикасаться к женщине. Если он коснулся незамужней женщины, то должен жениться на ней, иначе за нарушение запрета следует наказание: Тўтйўх тӑхты щиран ухм ӑнєм сөхтыйәԓәт, щи mөйиԓԓәм, mөйиԓԓәм, пўтєм пӑтэԓа каншты кємн иԓ щөӈхиты кємән, вэԓщи щи єсԓәмԓайәм «Подвесят меня за волосы на дровяник, когда котел подгорит, начинает дымиться, только тогда меня отпускают». Отец девушки наказывает проказника, отрубает ему руку: Аԓты кэши төс. Аԓты кэши ԓухтәс па щи нухсөхтәсы. Па нух сөхтәсы, ащэԓн сэвәрмәсый ошәԓ шөпи аԓты кэшийән. «Взял отец саблю. Наточил ее. Как только девушку схватили за волосы, отец отрубил проказнику руку».
В тексте сказки имеется формула, которая отмечает половую зрелость героини: Тӑпәр аљљәты, нампәр аљљәты, сухԓам ԓөмәԓтыйәԓсәм «Надевала старую, ненужную одежду». По словам информанта, подобная формула тӑпәр аљљәты, нампәр аљљәты сухԓам «старая, совершенно изношенная одежда» (букв.: мусор носить, хлам носить одежда)
ВЕСТНИК
табуирована и указывает на то, что девушка достигла половой зрелости, у нее наступил период менструального цикла. Во время менструального цикла женщины надевали на себя старую, ненужную одежду. Затем эта одежда хранилась в отдельном месте. По словам девушки, отец догадался, что у нее начался менструальный цикл, и перестал задавать ей вопросы.
Аӈкєԓ лупийәԓ: «Эвийэн атэԓ хотән, йанәс хотән омсэ. Мўӈ хотємән питәра» «Мать говорит: “Дочери построй отдельный дом, другой дом. Возле нашего дома”». Тем самым мать дает понять отцу, что у девушки наступил период половой зрелости и девушке необходимо жить отдельно. В традиционном обществе во время менструального цикла девушка должна жить в отдельном доме, так как в это время она считается перешедшей в другое состояние.
Качества, по которым выбирается невеста, внешние признаки, красота описаны в сказке следующим образом: Щи хурасәп Тыԓщәӈ вєншәп нє, щи хурасәп Хӑтәԓ вєншәп нє омәсәԓ «До того красивая с лицом месяца девушка, до того красивая с лицом солнца девушка сидит»; Щи хурасәп нє, утэ, ԓывєԓ тэԓааԓ хумпәлләԓ, сорњи ими вух мирән иԓ щи вухәԓтәсы «До того красивая, с нее лучи солнца падают, золотые лучи искрятся»; Щи хурасәп Хӑтәԓ эвитөс. И сорњэԓ иԓ вухәԓ и сорњэԓ нуххөӈхәԓ. Щи хурасән хӑннєхө «До того красивую дочь Солнца привез, один луч вниз течет, другой луч вверх поднимается»; Ма, – лупәԓ, – мӑԓәӈ хўԓ ай эвийєм, ԓўвты ки төсәм, аԓ муй хурасәп вөс, аԓ вањмәӈ вөс. Нӑӈ, – лупәԓ, – муй хурасәп тăйԓән?» «“Я, – говорит, – если бы привез маленькую дочь карася, вот она красавица, до чего она красивая, до чего она пригожая. А ты, какую красоту имеешь?”».
В хантыйском фольклоре часто встречаются примеры, в которых красота сравнивается с солнцем, с солнечными лучами. Внешность как таковая не описывается: нет конкретных описаний лица, носа, глаз, а только общее впечатление «сияния».
Основные черты характера невесты – терпеливость, выносливость. Текст сказки свидетельствует, что невеста выбирается по умениям и на- выкам: Йуԓән рөпата вєрәԓ. Ԓўв њар турән сөхәтәԓ па йухитөԓԓэ «Домашнюю работу она выполняет. Траву рвет, домой несет».
Традиционные нормы предполагают наличие у невесты приданого: Њуԓ тунты, пєс тун-ты сыхәт төс. Хинтән њуԓ тунты, пєс тунты вөн хинтән йонтса. И ай туйәсǝн йонтса, и вөн туйәсǝн йонтса «Из легко отделяющейся бересты, предназначенной для похоронного обряда, мать сшила девушке большой и маленький туесок». В предложении имеется указание на определение пєс – это береста, предназначенная для похоронного обряда; так как рука считается отрубленной, она помещается в этот туесок: Ащэԓән өхәԓ нөй, өхәԓ йєрмака вєрԓайәт «Отец готовит из него тонкое сукно, тонкий шелк» – в традиционном обряде одежду из тонкого сукна, тонкого шелка надевали только в исключительных случаях – на свадьбу или на похороны. Такая одежда преподносилась в дар духам-покровителям. Ԓўв йӑӈхәс, ин аӈкэԓ ԓэщитәм, вєрәм вөн хинт йухи төслэ, йӑм ԓөмәтсух ԓөмтәс, йӑм ԓөмәтсух утәс. Йӑм ухшамән, йӑм йєрнасән љөмәmљәс, ин вэй љөмәmљәс «Девушка пошла, занесла изготовленный матерью большой берестяной кузовок, надела на себя нарядную одежду. Надела на себя красивую одежду и обувь».
Невеста отца, рыба-карась, в присутствии мужчины начинает плести косы, показав свои волосы, что строго запрещено в традиционной культуре народа ханты. Существуют особые запреты по отношению к волосам человека, так как считается, что волосы обладают магической силой. Женщина, достигшая половой зрелости, и замужняя женщина ни в коем случае не должны показывать волосы чужим людям. Если мужчина увидел волосы молодой незамужней женщины, то должен на ней жениться. Замужняя женщина заплетает две косы на голове, накидывает платок: Нє омәсәԓ. Ухәԓ ара ԓăрпитәԓ. Ухәԓ кўншты щира. Ăнтө кўншԓәԓԓэ «Красавица сидит. Собралась она косы заплетать. Волосы расчесывает. Еще не расчесала»; Ин нєӈәԓ, мӑттырн, и пєләксэвәԓ сэвмаԓ, и пєләк ӑнтө сэвәԓ… «Та женщина половину головы заплела в косы, а другую еще нет»; Ин нєӈэԓ ԓуваттаԓән-ԓуваттаԓән сэвԓаԓ сэвмаԓ, муй ухшамԓаԓ щив кўншємәс, ԓуваттаԓән-ԓуваттаԓән кўншємәс, пӑԓаттаԓән-пӑԓатта-ԓән кўншємәс. Ин нєӈәԓ йоша щи павәтсәԓԓэ «Та же самая женщина заплела свои длинные косы, платок накинула. Схватил ее мужчина, попалась она ему в руки». В данном тексте дается подробное описание плетения кос.
В тексте сказки мы наблюдаем перемещения невесты в пространстве и времени. Невеста отправляется на поиски жениха. Чтобы отвратить беду от деревни и от семьи, мать отправляет дочь искать своего жениха, готовит ей приданое с напутственными словами: «Йа щи, эвийэ, оԓәӈвєрсән, щи кињщамӑна, – лупәԓ, – хуԓта нумсэн питәԓ, щив мӑна, хуԓта вөнрэн питәԓ, щив мӑна». Ин йошәԓ хинта пунса. Щи шөшәмәс «“Ну вот, доченька, натворила ты дел. С этим и уходи. Куда мысль повернет – туда и иди; куда душа позовет – туда и иди”. Девочка положила руку мужчины (жениха) в туесок, пошла».
Отношения невесты Солнца к народу выражены в следующих фрагментах текста сказки: Тыв йухәтсәмән, – лупийәԓ, – мир хуԓыйэва сємԓы тувэмийәԓсаӈән, ма кињща-ма хурасәп, ма кињща ма вањәнут – ит ӑнтөм. Хуԓты сєм пєлкәт, уӈәԓ пєԓкэт «Когда мы сюда приехали, – говорит, – народ слепой пришел, красивее меня, пригожее меня – ни одного нет. Все без глаз и ртов»; Хуԓ сємӈән тувәмийәԓсәӈән. Ушәӈ щирәӈ хӑннєхө иса ӑнт тӑйԓән, ӑԓ муԓты сє-мән пєлкәт, ўӈәԓ пєлкәт « Всех слепых привел, приличного человека у тебя совсем нет, какие-то слепые и без ртов». Образ невесты в сказке представлен в сравнении с образом родственников жениха. В этом примере противопоставляются две стороны: родня жениха и родня со стороны невесты. Сама невеста противопоставляет себя родственникам жениха. Это ее первые впечатления.
Содержание сказки дает представление об обычаях и традициях народа. Невестка должна уважать свою новую родню, однако она посмела высказаться о них неуважительно. Она возомнила себя красавицей, возгордилась. В целом, чувствуется проблема противопоставления своего чужому – противостояние между людьми солн- ца и народом жениха, т. е. хантыйским народом. Сравнив себя по внешности с некрасивым народом жениха, невеста нарушила обычаи и запреты. За нарушение хантыйских устоев жених ее убивает. Это значит, что в фольклорном тексте есть установка на соблюдение традиций и обычаев народа. Если бы невеста победила в этом противостоянии, то это означало бы, что традиции народа ханты изживают себя.
В тексте сказки отражено восхищение родственников жениха красотой невесты, дочери Солнца: Мўӈ Найэв пух, Вөртэв пух щи хурасәп Хӑтәԓ эвитөс. И сорњэԓ иԓ вухәԓ, и сорњэԓ нух хөӈхәԓ. Щи хурасәӈ хăннєхө. Йа щи, – лупәԓ, – њањԓам, – лупәԓ, – тухи төты. Хаԓэвәт муй па хăтәԓ поры вєрԓәт «Наш божественный сын такую красивую дочь Солнца привез. Один луч вниз искрится, другой вверх искрится. До того красивый человек. Ну вот, – говорит, – хлеб, – говорит, – туда [надо] отнести. Завтра или послезавтра будут делать приношение богам».
Наблюдается контраст между отношением невесты к родственникам жениха и отношением родственников к невесте. Смерть невесты вызывает негативное отношение. Прослеживается уже иное отношение к дочери Солнца, это подтверждает и эмотивная лексика: Ин Найэв пух, Вөртэв пух щи хурасәп нє төтљийәс, нєӈәԓ ӑнтөма йўвмаԓ. Щимәщ муй, – лупәԓ, – нє? Сурма йиты вєрәԓ вөс ки, йуԓән сурма йитаԓән атәм вөс, тăта сурма йиԓ. Мэњайа йухтәс, мухты сур-ма йис «Наш сын Бога, сын Богини до того красивую невесту привозил, эта женщина умерла. Что за женщина? Если умереть собралась, так дома бы умерла. Здесь она умерла. Невестой стала, сразу же умерла».
Главная героиня, желая рассорить предназначенного ей мужчину и его невесту, производит магические действия: Ин ԓўв щи мӑр муй ԓўв шўк, муй њањ кар шўк, муй па љикмәԓ, ай хирыйәванух щи ӑкәтәԓ. Хир ԓыпийа щи шавиԓәԓэ «Пока ждут, девушка на улице ходит, ходит. Какую-нибудь косточку найдет, корочку хлеба ли, какой кусок попадет, собирает все по кусочку. Собирает в мешок»; Йа, щив йухтәс, мир кўта щив ԓуӈємәс. Ин нє өхәԓ эвәԓт иԓ щи
ВЕСТНИК
вухәԓтәԓы ищи йошәԓ, йошӈәԓ катԓман. Щи артән ампәт щӑта йӑӈхԓәт. Ин њањ кар шўк хирәԓ шошємәслэ щив, ампәт кўла питсәт. Ин нє сӑм-мухԓәԓ хирәԓ иԓ рӑкнәс. Сӑмәԓ иԓ рӑкнәс. Тухи нињшәмтыйԓәс, аԓємәсэԓ, щитԓән хөхәԓмәс йухи «Пошла девушка туда, встала среди толпы. Дочь Солнца из саней за руки вывели, держа за руки. А посреди толпы собаки ходят. Девушка высыпала содержимое мешка с кусочками пищи, собаки разодрались. У девушки сердце-печень упало от страха. Сердце упало. Она протянула руку, наклонилась, схватила мешок и домой побежала». Подобные действия осуждались народом, но девушка вынуждена была это сделать, так как жених был предназначен ей. В этот же день молодожены ссорятся, жених убивает свою невесту, дочь Солнца, и остается со своей возлюбленной.
Мы выделили в сказке сакральные табуированные обороты и формулы, указывающие на возрастные особенности, физиологические признаки половой зрелости. Таким образом, фи- гура «Невеста» вербализуется в тексте хантыйской народной сказки определенным набором языковых средств, которые имеют особую семантику. Эти средства подчеркивают сакраль-ность объекта для носителей хантыйской культуры. Все формулы передают нравственные установки этноса.