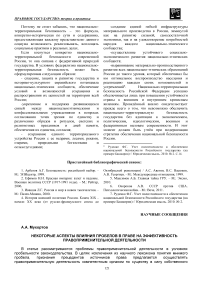Некоторые аспекты влияния пробелов в праве на эффективность правоприменительной деятельности
Автор: Мухортов А.А.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 2 (36), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы правоприменительной деятельности в условиях пробельности законодательства. В целях исключения из научного лексикона понятия мнимого пробела, признания прецедентов источников права предлагается осуществлять правоприменительную деятельность компетентным органом по существу в силу собственного усмотрения. Далее автор предлагает внедрить в научный оборот понятие «молчание законодателя».
Правоприменительная деятельность, пробел в законодательстве, правовое регулирование
Короткий адрес: https://sciup.org/142233656
IDR: 142233656
Текст научной статьи Некоторые аспекты влияния пробелов в праве на эффективность правоприменительной деятельности
Далеко не все общественные отношения являются урегулированными правовыми нормами.
Данная проблема особенно ярко проявляется в процессе правоприменения, когда необходимо осуществить упорядочение частично урегулированных правом общественных отношений.
В теории применения права данная проблема рассматривается в частной теории преодоления «молчания законодателя».
Авторы многих работ по теории государства и права и отраслевым юридическим наукам, освещая проблемы реализации права, считают возможным обходиться без употребления этого понятия.
Так, В.В. Лазарев, рассуждая о «ситуации, когда правоприменитель не находит нормы, регулирующей установленные факты», пишет: «Из этого следуют, по меньшей мере, два вывода: или законодатель не считает необходимым регулировать данные обстоятельства и принимать по ним какие-либо решения юридического характера, или же налицо пробел в законе»1.
Возникает вопрос – как правоприменителю достоверно определить: считает или не считает законодатель необходимым регламентировать определенный фрагмент деятельности?
Некоторые исследователи утверждают, что в юридической литературе сложилось общепринятое представление о пробелах в праве, а дискуссии идут лишь в отношении сферы (пределов) правового регулирования. Думается, понятие «молчание законодателя» не может и не должно быть «зачислено» в разряд узкоспециальных либо популярно-публицистических и потому второстепенных, вспомогательных, малозначимых.
«Молчание законодателя» – общеправовой феномен. Вполне возможно, что это категория, находящаяся на стыке понятийных рядов теории правосознания, теории правотворчества, теории интерпретации и теории реализации права.
«Молчание законодателя» в некоторых правовых системах означает вполне определенную государственную позицию.
Мусульманская правовая культура, например, традиционно исходит из того, что в шариате нет и не может быть пробелов, ибо в нем имеются ответы на все вопросы и существуют правила на все случаи жизни2. Государства, применяющие прецедентную систему права, по сути, также ориентированы на беспробельность права.
Все правовые коллизии, включая пробел в законодательстве, должен разрешить по своему усмотрению уполномоченный правоприменитель (судья либо административный орган). Но вот любопытный сюжет. Германское право не относится к прецедентной системе и вот, что можно прочесть у Л. Эннекцеруса в его Курсе германского гражданского права: «Жизнь требует ответа на каждый возникающий правовой вопрос, и судья обязан (если вопрос вообще подлежит судебному рассмотрению) давать ответ, то есть осуществлять правосудие... В этом смысле можно сказать, что право не имеет пробелов, ибо поскольку закон или обычное право совсем не дают ответа или дают ответ недостаточно полный, постоянно существовало прямо или молчаливо выраженное

общее правило, отсылающее к судейскому усмотрению»3.
Ст. 4 Кодекса Наполеона гласила, что «судья, который откажется судить под предлогом молчания, темноты или недостаточности закона, может подлежать преследованию по обвинению в отказе в правосудии».
Наше предложение – принять юридическую норму (ее можно поместить в закон о правотворчестве), где зафиксировать: «молчание законодателя» не может рассматриваться кем-либо пробелом, а юридическое дело должно быть рассмотрено компетентным органом по существу в силу собственного усмотрения.
Такая радикальная новелла не только ускорит факт признания в России судебных и административных прецедентов источником права, но и кардинально усилит правозащитную систему нашего государства, качественно демократизирует весь юридический процесс. Кроме того, уйдет из научного лексикона понятие мнимого пробела, под которым понимается «отсутствие правовой нормы, регулирующей общественные отношения, по своему характеру не являющимися правовыми»4. Ход мыслей авторов понять трудно, ибо неясно – как они собираются отличать правовые и неправовые отношения, если нет никакой юридической нормы.
В трактовке профессора Л.А. Морозовой мнимые пробелы – «преднамеренное молчание законодателя, то есть когда он сознательно оставляет вопрос открытым, предлагая передать его решение на усмотрение правоприменителя, или законодатель сознательно выводит данные общественные отношения за сферу правового регулирования»5. Такие действия законодателя, по ее мнению, именуют квалифицированным молчанием.
«Мнимый пробел в праве, – по мнению А. В. Малько, – ситуация, когда законодатель не считает целесообразным урегулирование того или иного вопроса правовыми средствами»6. Получается странная «гносеологическая картинка» – «квалифицированное молчание законодателя» отождествляется с «мнимым пробелом», однако неясно: для чего одно и то же правовое явление обозначается столь разными понятиями. Такая ситуация порождает немало коллизионных проблем и трудноразрешимых конфликтов в самых разных областях правового регулирования современной
России. Так, не имея своего интереса в результатах деятельности обществ с ограниченной ответственностью, государство перестало регулировать некоторые фрагменты их правового функционирования.
Закон об акционерных обществах не устанавливает правовых последствий истечения срока, на который избран исполнительный орган.
Возникает вопрос: это пробел или «квалифицированное молчание законодателя»? Внимательное ознакомление с текстом законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность обществ с ограниченной ответственностью, приводит к вполне определенному выводу о том, что отсутствие законодательного регулирования последствий истечения срока, на который избран исполнительный орган, представляет собой «квалифицированное молчание законодателя».
«В праве пробелов нет и быть не может» – этот тезис был выдвинут очень давно7 и, к сожалению, до сих пор оказывается неопровергнутым. «Молчание законодателя» – относительно самостоятельный юридический феномен, нормальное средство правообразования. Вот почему нельзя согласиться с В.М. Сырых, который «сознательное умолчание законодателя по соответствующему вопросу с надеждой принять соответствующие нормы в ближайшем будущем либо передать решение этого вопроса иным правотворческим органам» относит к причинам пробелов в праве8. «Пробел в праве, образованный сознательным умолчанием законодателя, – пишет он, – в теории права называется преднамеренным, умышленным, квалифицированным». И продолжает: «Ученые-юристы и практические работники считают, что пробелы такого рода не могут восполняться правоприменителями. Последние не могут игнорировать желание законодателя «умолчать там, где следовало бы выразить позитивное мнение»9. «В случае квалифицированного умолчания, - констатирует В.М. Сырых,- в законодательстве создается такая дыра, которую правоприменитель не может заштопать присущими ему средствами».
Приведенная доктринальная позиция не может быть принята даже с оговорками. Она неосновательно принижает, если не сводит на нет, властную сущность законодателя, которому отказывают в праве на умолчание. Ни один ученый-
правовед, ни один даже самый опытный практик не может додумывать за законодателя и решать – следовало или не следовало ему выразить позитивное мнение. Приводимые В.М. Сырых примеры, когда демократические нормы долгое время бездействовали из-за отсутствия специальных актов, определяющих порядок их реализации (право граждан на обжалование действий должностных лиц, право на возмещение государством вреда, причиненного их имуществу преступными деяниями), «бьют мимо цели».
Чувствуя неоднозначность своей позиции, В.М. Сырых вынужден отметить: «Тезис о том, что правоприменитель связан волей законодателя в случаях квалифицированного пробела, является недостаточно точным. Он противоречит общему принципу права, согласно которому ни один правоприменительный орган не может отказывать в решении дела по мотивам отсутствия необходимой нормы права»10. Не было в мире ни одного государства в прошлом, нет такового в настоящее время и вряд ли оно появится в ближайшем будущем, правовая система которого бы точно и полно установила все масштабы юридически значимой деятельности. Всегда какие-то элементы, стадии, состояния, процессы общественно значимой деятельности останутся вне правового опосредования, вне правовой регламентации. Это неустранимый недостаток любой формализованной нормативно-правовой системы. Как верно отмечает В.Д. Перевалов, «сфера правового регулирования определяется законодательством по отраслям права посредством специализированных норм»11. Речь идет не просто о специальных юридических нормах, а об особом технико-юридическом способе очерчивания сферы правовой регламентации. Кодификационные акты и схожие с ними крупные консолидирующие юридические документы в качестве атрибута имеют статью с типовым наименованием – «отношения, регулируемые гражданским законодательством» (ст.2 Гражданского кодекса РФ), «отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах» (ст. 2 Налогового кодекса РФ), «отношения, регулируемые земельным законодательством» (ст.3 Земельного кодекса РФ)12. Есть более удачные случаи установления в законодательстве границ юридической регламентации. Например, ст.2 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38 «О рекламе» называется «Сфера применения настоящего Федерального закона»13. В статье не только четко обозначено, что закон применяется к отношениям в сфере рекламы независимо от места ее производства, если распространение рекламы осуществляется на территории Российской Федерации. В пункте 2 этой статьи перечисляется девять объектов, на которые закон не распространяется (политическая реклама, в том числе предвыборная агитация и агитация по вопросам референдума, вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера и т. п.).
И совсем неважно, что некоторые исследователи считают это пробелом в рекламном законодательстве: государство установило сферу применения закона в таком разрезе. А вот Уголовный кодекс Российской Федерации, видимо, в силу традиции, понятие «сфера применения закона» в разделе первом Общей части не содержит. Нет его и в разделе первом Общей части Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации.
Ст.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях оперирует понятием – «Предметы ведения Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях»14. Ст.11 Трудового кодекса Российской Федерации называется «Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права». Это помимо ст.12 и 13 о действии норм трудового права во времени и пространстве15. «При отказе законодателя от правовой регуляции данных обстоятельств, – верно подчеркивал В.С. Нерсесянц, – соответствующие фактические обстоятельства не имеют юридического значения». «По таким обстоятельствам, – пояснял он, – не следует возбуждать юридическое (правоприменительное) дело, а по уже возбужденному делу необходимо вынести соответствующее решение с учетом их юридической незначимости («юридической ничтожности»)»16.
Рассуждая о «молчании законодателя», мы не должны абстрагироваться от политической составляющей этого феномена. В периоды острой политической борьбы, кардинальных реформ законодатель зачастую желает, но не в состоянии принять закон. Типичная ситуация, которую можно наблюдать как на федеральном, так и на
региональном уровне: верхняя палата отклоняет закон, принятый нижней палатой; президент накладывает вето на законопроект, представленный Советом Федерации. Кроме того, как верно подметил Венгеров А.Б., иногда «общественные отношения обладают такой новизной и степенью сложности, что непонятно, как, с помощью каких правовых средств их надо регулировать»17. Речь идет о существовании целого ряда не только субъективных, но и объективных факторов, препятствующих принятию того или иного закона, формированию того или иного юридического института, установлению той или иной законодательной нормы. Вряд ли это можно отнести к «квалифицированному молчанию законодателя», но и пробелом такие юридические ситуации не являются. По причинам политического характера в любом государстве (в советские времена нам приходилось приписывать это только буржуазному обществу)18 бытуют, в большей или меньшей степени, намеренные упущения законодательной власти. Речь идет о существовании либо системы, либо серии отдельных фактов обмана граждан провозглашенными правовыми установлениями, применение которых не урегулировано только для того, чтобы закон остался на бумаге. Такого типа злостных изъянов или «квалифицированных дефектов» тем больше, чем сильнее разрыв между законодательными манифестами и действительной политикой государства.
Таким образом, есть необходимость во внедрении в научный аппарат понятия «молчание законодателя». Предлагаемое понятие позволит охватить все те ситуации, когда законодатель осознает необходимость юридического регулирования того или иного фрагмента человеческой деятельности, желает и имеет намерение осуществить правовую регламентацию, но в силу самых разных причин и обстоятельств фактически не в состоянии это сделать. В любом случае, при любой степени его вины здесь, по всей видимости, можно вести речь о его недостаточной квалификации, низком профессионализме, слабости властных начал. По аргументированному мнению некоторых исследователей, «не тип демократии как таковой (президентский или парламентский), а относительная сила позиции парламента по сравнению с прерогативами исполнительной власти определяет шансы демократии на выживание»19. Не секрет, что в некоторых, если не во многих, субъектах Российской Федерации мощная исполнительная власть не дает порой законодательным собраниям принимать обременительные для нее законы. При таком раскладе политических сил вполне можно вести речь о «молчании законодателя». Особой разновидностью «молчания законодателя» является умышленное противоправное принятие уполномоченным нормодателем дефектного (в том числе и, прежде всего, путем образования пробелов) нормативного правового акта. Известно, что отсутствие правовой нормы или ее какого-то элемента обнаруживает в процессе правоприменительной деятельности конкретный ее субъект, когда испытывает затруднение в решении дела. И вместо того, чтобы сосредоточить все усилия на поиске реальных путей разрешения юридического дела, он, не желая принимать на себя ответственность, с готовностью объявляет о пробеле в законодательстве. Между тем, зачастую можно решить дело на стыке с нормами морали. Но для этого требуется инициативность, профессионализм и, естественно, гражданская смелость.
-
17 Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. - 3-е изд. М., 1999. С.436–437.
-
18 См.: Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976. С.145.
-
19 См.: Умланд А. Растление в условиях псевдодемократии. Электоральный авторитаризм на постсоветском пространстве // Книжное обозрение. 2007. № 33–34. С.23.
Список литературы Некоторые аспекты влияния пробелов в праве на эффективность правоприменительной деятельности
- Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. 3-е изд. М., 1999.
- Гражданский кодекс Квебека. - М.: Статут, 1999.
- Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: учебное пособие: в 2 т. Т.1. Ярославль, 2005.
- EDN: QWNDWN
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ч.1. Ст.1.
- Краткий юридический словарь. М., 2007.
- EDN: QXIAHF