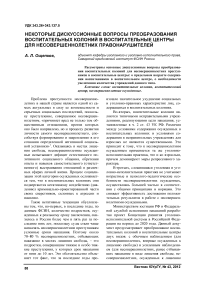Некоторые дискуссионные вопросы преобразования воспитательных колоний в воспитательные центры для несовершеннолетних правонарушителей
Автор: Ощепков Андрей Львович
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Статья в выпуске: 43 (302), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены основные дискуссионные вопросы преобразования воспитательных колоний для несовершеннолетних преступников в воспитательные центры: о предельном возрасте содержания воспитанников в воспитательном центре, о необходимости увеличения количества учреждений данного типа.
Воспитательные колонии, воспитательный центр, несовершеннолетние осужденные
Короткий адрес: https://sciup.org/147149749
IDR: 147149749 | УДК: 343.26+343.137.5
Текст научной статьи Некоторые дискуссионные вопросы преобразования воспитательных колоний в воспитательные центры для несовершеннолетних правонарушителей
Проблема преступности несовершеннолетних в нашей стране является одной из самых актуальных в силу ее комплексности и серьезных социальных последствий, поскольку преступление, совершенное несовершеннолетним, «причиняет вред не только тем общественным отношениям, против которых оно было направлено, но и процессу развития личности самого несовершеннолетнего, способствуя формированию и закреплению в его сознании определенной негативной социальной установки»1. Оказываясь в местах лишения свободы, несовершеннолетние осужденные испытывают дефицит естественного позитивного социального общения, обретения опыта и навыков самостоятельного (ответственного) выстраивания отношений в различных сферах личной жизни. Процесс социализации этой категории осужденных осложняется тем, что в воспитательных колониях они подвергаются негативному воздействию (давлению) криминально-ориентированной части своих сверстников, склонных к агрессии и насилию.
Такие негативные тенденции обусловлены тем, что, во-первых, в последние годы, по данным ФСИН, количество подростков, осужденных к реальному сроку заключения, снизилось в России более чем в пять раз за последние пять лет, поскольку суды стали чаще назначать несовершеннолетним преступникам условные сроки наказания. Поэтому около 70–80 % несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, – это подростки, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, у которых срок наказания от пяти до 10 лет. Это обстоятельство объясняет тот факт, что за последние годы про- изошло значительное ухудшение социальных и уголовно-правовых характеристик лиц, содержащихся в воспитательных колониях.
Во-вторых, воспитательные колонии являются типичными исправительными учреждениями, реализующими цели наказания, установленные в ч. 2 ст. 43 УК РФ. Различия между условиями содержания осужденных в воспитательных колониях и условиями содержания в исправительных учреждениях для взрослых не являются существенными. Это приводит к тому, что к несовершеннолетним осужденным применяется та же уголовноисполнительная практика, что и ко взрослым, причем доминируют меры репрессивного характера.
В-третьих, сложившаяся уголовная и уголовно-исполнительная практика не учитывает возрастные и психолого-педагогические особенности несовершеннолетних осужденных, осуществляясь большей частью в соответствии с общими принципами и нормами. Это снижает эффективность достижения положительных результатов в работе с несовершеннолетними осужденными.
Министерством юстиции РФ и Федеральной службой исполнения наказаний разработан проект Концепции развития уголовноисполнительной системы в Российской Федерации на период до 2020 года. Данный документ предусматривает преобразование воспитательных колоний в воспитательные центры двух видов: с обычным наблюдением (для несовершеннолетних, впервые осужденных к лишению свободы) и усиленным наблюдением (для несовершеннолетних, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления). Эти преобразования вызваны изменениями уголовной и уголовноисполнительной политики в отношении несовершеннолетних на основе гуманизации процесса исполнения наказаний, новыми взглядами на его цели и средства. В ходе реформирования предполагаются такие изменения, которые позволят достигнуть международных стандартов содержания осужденных в исправительных учреждениях.
Воспитательный центр должен стать таким учреждением, в котором осуществляется комплексная, завершенная система исполнения лишения свободы для лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте с целью социализации личности.
Разработанная в рамках Концепции развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации на период до 2020 года модель исправительного учреждения нового типа для несовершеннолетних (воспитательный центр) имеет целый ряд преимуществ. Назовем наиболее важные из них:
– создание структуры воспитательного центра (элементами его структуры являются помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, – ПФРСИ; участок для содержания несовершеннолетних осужденных, а также положительно характеризующихся осужденных после достижения ими совершеннолетнего возраста; изолированный участок, функционирующий в режиме исправительной колонии (тюрьмы) общего режима; социально-реабилитационный центр). Такая структура, по мысли разработчиков, позволит обеспечить непрерывность и преемственность социальной, психологической и воспитательной работы с несовершеннолетними с момента заключения их под стражу и до момента освобождения, оградить несовершеннолетних от влияния со стороны взрослых преступников, воспрепятствовать распространению криминальной субкультуры;
– обеспечение раздельного содержания несовершеннолетних осужденных по степени криминальной зараженности (за счет создания воспитательных центров с обычным и усиленным наблюдением);
– создание вместо отрядов мультидисци-плинарных групп осужденных, что позволит обеспечить индивидуализацию процесса исправительного воздействия, приоритет в работе психолого-педагогических и социальных методов и форм воздействия на осужденных;
– обеспечение условий отбывания наказания, позволяющих стимулировать правопослушное поведение осужденных путем последовательного снижения уровня правоогра-ничений (система «социального лифта»);
– наличие в штатах воспитательного центра значительно большей численности сотрудников, осуществляющих функции социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными, а также функции медицинского обслуживания (с одновременной их специализацией в зависимости от категорий осужденных, участка воспитательного центра, этапа отбывания наказания);
– минимизация в работе воспитательных центров элементов, характерных для тюремного учреждения. В частности, в воспитательном центре полностью упраздняется обращение воспитанников к сотрудникам «гражданин начальник», хождение строем по территории; планируется ввести специальную форму (без атрибутики ФСИН) для сотрудников с той целью, чтобы у воспитанников не возникло предубеждение к людям в военизированной форме, а у несовершеннолетних осужденных будет специально сшитая одежда по типу гражданской, вместо бирок – бейджики, на которых будут только имя, фамилия и отчество (без статей и сроков)2.
Несовершеннолетних разместят в помещениях, рассчитанных на 3–4 человека, а осужденных за не очень тяжелые преступления – за пределами центра. Например, по данным на 8 июня 2012 г. в Брянской воспитательной колонии уже полностью переоборудовано помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРСИ). Это 2-х-, 3-х- и 4-х местные камеры, в которых на каждого человека приходится не менее 7 кв. м жилой площади, туалетные помещения изолированы. В камерах установлены ЖК-телевизоры, радиоточки, развернута система видеонаблюдения. Контроль за всем этим, в том числе выбором каналов для просмотров, осуществляется оператором из специально оборудованного пункта, что не только позволяет полностью владеть обстановкой, но и вести среди обвиняемых профилактическую работу: демонстрировать тематические фильмы, передачи колонийской телестудии, в которых уже осужденные подростки рассказывают своим сверстникам о реальной, совсем неромантичной жизни «за решеткой»3.
Безусловным положительным моментом является принятое решение ввести в органи- 59
зационную структуру воспитательного центра должность помощника начальника центра по соблюдению прав человека в УИС4. Данное предложение вызвано все повышающимся вниманием со стороны государства и общественности к вопросам обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних в условиях лишения свободы, улучшения их социального положения, адаптации к жизни в обществе.
Однако остаются дискуссионными многие вопросы, связанные с преобразованием воспитательных колоний в воспитательные центры. Остановимся на некоторых из них.
Первый момент носит теоретический характер и касается формулировки целей наказания в отношении несовершеннолетних. Сейчас цели наказания сформулированы в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (ст. 1 ч. 1) таким образом: «Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами»5; подобным же образом сформулированы и цели наказания воспитательного центра:
– исправление осужденных;
– предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами;
– обеспечение эффективной ресоциализации осужденных к условиям жизни в современном обществе на основе применения индивидуальных форм воздействия6.
Таким образом, первостепенной целью уголовного наказания является исправление. Такая формулировка задает уголовноисполнительной системе и ее сотрудникам определенный насильственный посыл: основываясь на механистическом подходе, он рождает отношение к человеку как к вещи, как к неодушевленному предмету, нивелируя его индивидуальность. Осужденный воспринимает себя как объект внешнего воздействия, что порождает психологическое, а временами и физическое сопротивление с их стороны. Сами руководители и сотрудники ФСИН признают существование антагонизма между сотрудниками и осужденными. В отношении несовершеннолетних такая установка тем более неприемлема.
В Пекинских правилах ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, ничего не говорится об ис- правлении как цели наказания. Они формулируют эту цель как «обеспечение опеки, защиты, образования и профессиональной подготовки с целью оказания им помощи для выполнения социально-полезной и плодотворной роли в обществе»7. Такая формулировка, как нам представляется, может способствовать созданию совсем другого психологического климата и принципиально иного фундамента взаимоотношений в местах лишения свободы.
Второй дискуссионный вопрос касается сокращения количества учреждений для несовершеннолетних правонарушителей. В 2002 году таких учреждений было 64, с 2003 по 2010 гг. их функционировало 62. В 2011 году их стало 468. Сегодня в рамках Концепции реформирования уголовноисполнительной системы на базе оставшихся 46 воспитательных колоний предполагается создание примерно 32–35 воспитательных центров.
Такое количество воспитательных центров обусловлено тем, что в последние годы произошло существенное снижение количества несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. Наполняемость воспитательных колоний уменьшилась, достигнув небывало низкого уровня в 2011 году – 2808 человек против 16491 человек в 2003 году9. Связано это в первую очередь с тем, что в последние годы суды, как указывалось выше, стали чаще назначать несовершеннолетним преступникам условные сроки наказания.
Исходя из сокращения осужденных несовершеннолетних к лишению свободы, можно рассчитать наполнение воспитательных колоний (приблизительно около 80 человек). Это соответствует Правилам ООН 1990 года, касающимся защиты прав несовершеннолетних, лишенных свободы, в которых рекомендовано создавать «небольшие учреждения, являющиеся составной частью социальной, экономической и культурной среды общины»10. Во Франции такими небольшими учреждениями считаются заведения для 60 человек, в Италии они рассчитаны на 40–45 несовершеннолетних. В США сегодня насчитывается 3000 колоний для несовершеннолетних, средняя наполняемость – 30 человек.
Однако наряду с этим положительным моментом (снижение количества несовершеннолетних преступников, содержащихся в одном учреждении), представители общественных организаций и некоторых государствен- ных органов неоднократно выражали свою обеспокоенность тем, что многие регионы лишаются своих учреждений для несовершеннолетних правонарушителей, вследствие чего их подростки будут вынуждены отбывать наказание за многие сотни и даже тысячи километров от дома, от семьи. При этом практически перестает действовать такой значимый социализирующий фактор, как социальные связи, не говоря уже о том, что неокрепшая детская психика будет дополнительно травмироваться во время изнурительных этапов, а само наказание станет походить на комбинацию лишения свободы и исчезнувшей уже из уголовного кодекса «ссылки».
С другой стороны, как показывает практика, даже если колония расположена недалеко от места проживания родителей, очередей на длительные и на краткосрочные свидания нет, так как родители и родственники сами не стремятся поддерживать социально-значимые связи. И комнаты длительных свиданий порой пустуют. Эта проблема на сегодняшний день значительно глубже, чем отдаленность воспитательных учреждений от родителей несовершеннолетних осужденных.
В результате сокращения числа воспитательных колоний необходимо увеличить роль общественных организаций, которые могли бы решать задачи восстановления социальных связей между детьми и их родителями, находящимися вдали друг от друга. Причем это могут быть организации, расположенные и вблизи места дислокации колонии, и по месту жительства родственников. Создание таких общественных «мостов» поможет развитию самого гражданского общества и будет способствовать превращению пенитенциарной системы в более открытый государственный институт.
Еще в 1992 году на коллегии Главного управления исполнения наказаний, которое находилось тогда в подчинении министерства внутренних дел, было принято единогласное решение рекомендовать всем структурам власти и субъектам федерации сделать все возможное, чтобы в каждом регионе были созданы свои воспитательные колонии11. Реализация такой системы позволяла сохранить социальные связи, поскольку они напрямую связаны с процессом ресоциализации несовершеннолетних осужденных. Например, в 1994 году в Калужской воспитательной колонии из 220 осужденных 50 человек были жителями Калужской области, а 170 детей были выход- Серия «Право», выпуск 32
цами из прикрепленных регионов – более или менее близкой Ярославской области и республики Коми и Архангельской области, до которых от Калуги почти полторы тысячи километров. И если среди калужских детей рецидив составлял около 40 %, то среди детей из удаленных регионов рецидив был в районе 70 %. За 2–3 года лишения свободы их социальные связи были утеряны12.
Сокращение количества воспитательных учреждений в России до 32–35 тем более нецелесообразно, потому что, по прогнозам ФСИН, существенное увеличение предельного возраста содержания в этих учреждениях приведет к увеличению наполняемости учреждений до 200 человек, их переполнению. Очевидно, что при наполняемости в 200 человек это будет уже иного рода учреждение, близкое к ныне существующим «лагерям и тюрьмам». Сегодня, когда Россия является членом Совета Европы – сообщества государств, в которых нормальной наполняемостью учреждений для несовершеннолетних правонарушителей считается 40–60 человек, сокращение общего количества воспитательных учреждений для несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, может негативно повлиять на процесс их ресоциализации.
Таким образом, считаем, что необходимо пересмотреть количество учреждений для несовершеннолетних осужденных и увеличить их число до количества субъектов Федерации (83), потому как это положительно отразится на социально полезных связях и соответственно позволит повысить эффективность воспитательной работы в отношении несовершеннолетних осужденных и их последующей ресоциализации.
Третий дискуссионный вопрос касается возраста пребывания в воспитательной колонии. По действующему законодательству (ч. 1 ст. 139 УИК РФ) предельный возраст пребывания в воспитательной колонии составляет 19 лет: «В целях закрепления результатов исправления, завершения среднего (полного) общего образования или профессиональной подготовки осужденные, достигшие возраста 18 лет, могут быть оставлены в воспитательной колонии до окончания срока наказания, но не более чем до достижения ими возраста 19 лет»13. Следовательно, для оставления совершеннолетнего осужденного в воспитательной колонии «достаточно одного из двух оснований: закрепление результатов исправ- ления или завершение образования»14. В этом положении реализуется принцип отбывания осужденным наказания в одном исправительном учреждении. Этот принцип имеет важное педагогическое значение, он призван обеспечить стабильность и непрерывность карательно-воспитательного процесса. Для изучения личности осужденного, эффективного применения средств исправления требуется достаточно длительное время. Кроме того, стабильность коллектива осужденных является необходимым условием организации всей воспитательной работы. Принцип отбывания наказания в одном учреждении вступает здесь в конкуренцию с другим принципом – раздельного содержания взрослых и несовершеннолетних. В данном случае предпочтение отдается принципу отбывания в одном учреждении, поскольку реализация принципа раздельного содержания (перевод осужденного в исправительную колонию) влечет отрицательные в педагогическом плане последствия – прерывается воспитательный процесс, осужденный попадает в более неблагоприятную в педагогическом отношении среду, смена привычной обстановки порождает отрицательные психические состояния и т.д.15
Предельный возраст пребывания в колонии был изменен 22 декабря 2008 г., а до этого предельный возраст пребывания в колонии был ограничен 21 годом. Снижение возраста с 21 до 19 было обусловлено тем, что воспитательные колонии были в то время переполнены, в них существовала «дедовщина».
Сейчас ученые и практики пришли к выводу, что это не совсем правильная мера, так как несовершеннолетние в большинстве случаев поступают в воспитательные колонии из следственных изоляторов, а достигнув совершеннолетия, переводятся для отбытия оставшегося срока наказания в исправительные колонии общего режима, где происходит их приобщение к криминальной субкультуре и усвоение негативных социальных ценностей. Кроме того, пытаясь «заработать» авторитет, осужденные еще перед переводом во взрослую колонию общего режима начинают целенаправленно нарушать установленный порядок отбывания наказания, создавая сложную криминогенную обстановку в воспитательных колониях. Это в конечном счете существенно ограничивает возможности колоний в достижении целей исправления осужденных, предупреждения совершения ими новых преступлений.
Сегодня в условиях реформирования УИС учеными и практиками дискутируется вопрос об увеличении возраста пребывания в воспитательной колонии после достижения совершеннолетия либо до 21 года (52,6 % респондентов16), либо до 24–25 лет (35,3 % респондентов), либо до полного отбытия срока наказания, назначенного по приговору суда (17,3 % респондентов).
Мы считаем, что возраст 21 год является оптимальным, поскольку к этому возрасту основная масса воспитанников колонии уже успевает освободиться условно-досрочно, а сама возможность оставления в воспитательном центре может служить для подростков хорошим стимулом хорошо себя вести, учиться, получать профессию. Наличие положительно характеризующихся лиц старше 18 лет в статусе спецконтингента воспитательной колонии может благоприятно влиять на младших воспитанников, давая пример позитивного поведения. Кроме того, возраст 21 год как возраст совершеннолетия в западных странах не случаен. Именно в этом возрасте происходит окончательное становление личности человека как в биологическом (физическом) отношении, так и в психологическом, и в морально-нравственном. Если человек в 18 лет представляет собой не совсем зрелую личность, то к 21 годам у него сформирована нравственная сфера, ценностные установки, произвольные психические процессы, в полную силу работают все биологические системы организма. Поэтому предельный возраст оставления осужденного к лишению свободы в воспитательном центре, как нам представляется, – 21 год.
Сторонники ограничения возраста пребывания в воспитательной колонии 24–25 годами аргументируют это тем, что многие из тех, кто совершил в 14–15 лет тяжкие преступления со сроком 10 лет, могут отбыть весь срок в воспитательном центре. Это же желание выражено во мнении о том, что в воспитательном центре осужденные должны находиться до полного отбытия срока наказания, назначенного по приговору суда. В любом случае увеличение предельного возраста содержания осужденных в воспитательном центре должно «не только обеспечить целостность и непрерывность исправительного процесса, но и должно позволить избежать отрицательного воздействия на несовершеннолетних осужденных со стороны взрослых преступни-ков»17. Однако хочется возразить сторонни- кам этой мысли: если продление предельного возраста пребывания в воспитательной колонии до 21 года, по нашему мнению, еще допустимо, то молодой человек в возрасте 24– 25 лет даже отдаленно не напоминает несовершеннолетнего подростка. Поэтому с целью избегания отрицательного воздействия со стороны взрослых преступников в исправительной колонии и недопущения усвоения криминальной субкультуры воспитанниками воспитательного центра предлагается не переводить осужденного после 21 года в исправительную колонию, а в структуре воспитательной колонии создать (по типу участка, функционирующего в режиме следственного изолятора) участок, функционирующий в качестве исправительной колонии общего режима, в котором молодые люди могли бы отбывать оставшийся срок лишения свободы.
Таковы некоторые дискуссионные вопросы преобразования воспитательных колоний в воспитательные центры. Грамотное, продуманное их решение позволит поставить воспитательную работу с несовершеннолетними осужденными на новый качественный уровень и более эффективно осуществлять процесс ресоциализации малолетних преступников.
Список литературы Некоторые дискуссионные вопросы преобразования воспитательных колоний в воспитательные центры для несовершеннолетних правонарушителей
- Пудовочкин Ю. Е. Ювенальное уголовное право: понятие, структура, источники//Журнал российского права. 2003. № 3. С. 44.
- Гришко А. Я. Правовое обеспечение реформы исполнения наказаний в виде лишения свободы//Человек: преступление и наказание. 2010. № 14. С. 20.
- URL: httр://фсин.рф/news/indех.рhр?ЕLEMENT_ID=40216.
- URL: http://фсин.рф/document/index.php?ELEMENT_ID=12732.
- URL: http://do.gendocs.ru/download/docs-99670/99670.doc.
- URL: http://www.prison.org/download/docs/oblaka_181011.pdf.
- URL: http://base.garant.ru/1306500/18/.
- URL: http://www.orfsin.ru/img/img/gall/nomer/ved/ved2010/pdf/11.11.10.pdf.
- URL: http://www.vipe-fsin.ru/journal_bulletin_of_the_institute/archive/magazine/10/07.pdf.