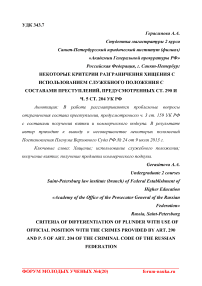Некоторые критерии разграничения хищения с использованием служебного положения с составами преступлений, предусмотренных ст. 290 и ч. 5 ст. 204 УК РФ
Автор: Герасимова А.А.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 4 (20), 2018 года.
Бесплатный доступ
В работе рассматриваются проблемные вопросы отграничения состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ с составами получения взятки и коммерческого подкупа. В результате автор приходит к выводу о несовершенстве некоторых положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 24 от 9 июля 2013 г.
Хищение, использование служебного положения, получение взятки, получение предмета коммерческого подкупа
Короткий адрес: https://sciup.org/140282160
IDR: 140282160
Текст научной статьи Некоторые критерии разграничения хищения с использованием служебного положения с составами преступлений, предусмотренных ст. 290 и ч. 5 ст. 204 УК РФ
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» приводит один из критериев отграничения получения взятки и предмета коммерческого подкупа от мошенничества с использованием служебного положения. Под таким критерием предлагается понимать наличие или отсутствие у лица возможности совершения действий (бездействия) с использованием служебного положения, за которые оно получило вознаграждение.
Так абзац 1 п. 24 указанного постановления Пленума разъясняет, что «получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, ценностей за совершение действий (бездействие), которые входят в его полномочия либо которые оно могло совершить с использованием служебного положения, следует квалифицировать как получение взятки либо коммерческий подкуп вне зависимости от намерения совершить указанные действия (бездействие)1».
Некоторыми теоретиками и практиками между тем высказываются мнения выражающие сомнение относительно обоснованности такой позиции. В частности, их можно встретить в научных работах Н.А.
Егоровой2, Е.В. Пейсиковой3. В опровержение позиции Пленума Верховного Суда РФ указывается, что, «если бы лицу, передавшему виновному ценности, стало известно, что последний в действительности не собирается выполнять обещанного, то ценности ему переданы не были бы, а значит эти ценности получены путем введения передавшего их лица в заблуждение, то есть мошеннически».
Однако, как справедливо замечает П.С. Яни, «содеянное в данном случае соответствует пониманию в законе получения и дачи взятки -должностное лицо осознает, что ему вручают ценности за совершение действий (бездействие) по службе, и такая связь - вознаграждения и ожидаемых служебных действий (бездействия) - носит не только субъективный (с позиции передающего ценности лица), но и объективный характер - соответствующими служебными возможностями вознаграждаемый чиновник действительно располагает, что им осознается4».
Кроме того, позиция высшей судебной инстанции представляется обоснованной ввиду законодательной конструкции составов, предусмотренных ч. 5 ст. 204 и ст. 290 УК РФ, которые являются формальными. Поэтому в данном случае для оконченного состава не требуется совершения тех действий, за которые незаконно были получены материальные ценности. Достаточно того факта, что эти действия входили в полномочия лица либо он мог их совершить с использованием своего служебного положения. Таким образом, если такими служебными возможностями виновный располагает, то, принятие ценностей следует квалифицировать как получение взятки или получение предмета коммерческого подкупа даже в случае, когда это лицо изначально не намеревалось совершать обещанные действия.
Как следует из абзаца 2 п. 24, «в том случае, если указанное лицо получило ценности за совершение действий (бездействие), которые в действительности оно не может осуществить ввиду отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать свое служебное положение, такие действия при наличии умысла на приобретение ценностей следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения5».
С таким подходом, по нашему мнению, можно согласиться лишь в части. Действительно, в этом случае виновный получает материальные ценности путем введения в заблуждение взяткодателя (лицо передающее предмет коммерческого подкупа) относительно возможности совершения обещанных действий, выполнить которые на самом деле не может. Материальные ценности передаются под воздействием обмана, который выступает способом изъятия чужого имущества. Поэтому в рассматриваемой ситуации не возникает сомнений относительно квалификации содеянного виновным как мошенничества. Проблемным вопросом представляется вменение признака «с использованием служебного положения».
Рассмотрим подобный пример. М. занимал должность инспектора УФМС и осуществлял деятельность в сфере содействия интеграции и адаптации мигрантов, организовывал взаимодействие с национальными объединениями по информированию о миграционном законодательстве, занимался проверкой и организацией курсов русского языка и русской культуры для иностранных граждан.
М. встретился со знакомым К. в ресторане, где М., ссылаясь на свое служебное положение, сказал, что за денежное вознаграждение может организовать любые мероприятия связанные с ФМС г. Москвы, а именно: у него есть возможность снимать запреты на въезд в РФ, делать разрешение на временное проживание, кроме того он может по своей линии работы обеспечивать общее покровительство магазина и автомоек К., в котором работают иностранные граждане, а также может поспособствовать по не внесению данных объектов в список планируемых УФМС России по г. Москве проверок. Кроме того М. обещал за денежное вознаграждение договориться об ускоренном оформлении заграничного паспорта, а также о том, что прием будет лично вести заместитель руководителя.
В суде начальство М. показало, что в силу должностных обязанностей виновный давать какие-либо указания сотрудникам иных отделов УФМС, а также повлиять на них иным образом не мог, полномочиями для выполнения обещанных действий не располагал6.
Анализируя приведенный пример из судебной практики, можно сделать вывод о том, что инспектор УФМС совершил мошенничество. Обещая К. за деньги выполнить определенные действия, на самом же деле не мог их осуществить ввиду отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать свое служебное положение. Таким образом, его умысел был направлен на завладение чужим имуществом путем обмана.
Что касается использования М. своего служебного положения, то по нашему мнению данный признак вменять нельзя. В приведенной ситуации, как мы уже определились, для завладения денежными средствами виновный использовал обман, который выразился в создании у К. ложного мнения относительно возможности совершения в его пользу за вознаграждение определенных действий, то есть относительно своего реального служебного положения. Возникшее в результате введения в заблуждение мнимое представление о своем служебном положении виновный использовал для воздействия на К. Именно на мнимые служебные полномочия, на не существующий в действительности авторитет рассчитывал К. и именно под воздействием ложного понимания статуса М. им были переданы денежные средства. По нашему мнению, это в полной мере охватывается признаками обмана и не требует дополнительной квалификации.
Думается, что такой способ хищения как «использование служебного положения» подлежит вменению только в случае использования виновным своего реального служебного положения, то есть положения, которое он действительно занимал. Примером может послужить следующая ситуация.
Так, у заместителя командира взвода Р. появился умысел на хищение имущества со склада расположенного на территории воинской части. Так как по своей должности он не располагал для этого необходимыми служебными полномочиями, Р. решил действовать через материально ответственных лиц и обратился к заведующей хранилищем А. с просьбой выдать ему летних камуфлированных костюмов без оформления в учетных документах. Заведующая хранилищем А. знала, что Р. входит в начальствующий состав, а потому не сомневалась в необходимости выполнения его распоряжения. Таким образом, Р. совершал хищения имущества, принадлежащего Министерству обороны РФ в течение двух лет, в результате чего ему удалось похитить вещевое имущество в особо крупном размере7.
Заместитель командира взвода Р., не обладал необходимыми полномочиями для осуществления хищения, однако ввиду наличия определенного служебного положения, являясь начальником, мог оказать воздействие на материально ответственных лиц, которые располагали полномочиями по распоряжению имуществом. Злоумышленник использовал служебное положение, которым действительно обладал. Материально ответственные лица в свою очередь осознавали, что Р. является начальником, под воздействием этого безоговорочно выполняли его поручения. Ключевым аспектом является также и тот факт, что служебное положение реально было им использовано, ведь именно путем воздействия
Р. на материально ответственных лиц было незаконно выдано, а по факту похищено, имущество Министерства обороны РФ.
Возвращаясь к рассмотренному ранее примеру, отметим, что инспектор УФМС свое реальное служебное положение использовать не мог, чем и обуславливается выбор им такого способа преступного посягательства как обман. В противном случае принятие им вознаграждения стоило бы расценивать как получение взятки.
По нашему мнению, рассмотренная ситуация практически аналогична той, когда рядовой гражданин облачается в форму полицейского, мнимо задерживает другого гражданина, требуя, к примеру, за не оформление протокола о задержании денежного вознаграждения. Очевидно, что в данном случае преступник не может использовать служебное положение, поскольку им не обладает. Приведенный пример от ситуации, рассмотренной Пленумом Верховного Суда, отличается только субъектом преступления. Так в одном случае это рядовой гражданин, а в другом должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации.
Таким образом, возвращаясь к разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, отметим их противоречивость. Возникает закономерный вопрос: если виновный не обладал служебным положением, которое он мог бы использовать при совершении противоправных действий, почему ему вменяется квалифицирующий признак мошенничества «с использованием служебного положения»? Сам по себе факт того, что лицо занимает определенную должность и в связи с этим наделен управленческими полномочиями, не может расцениваться правоприменителем как их использование. По нашему мнению, такой подход нарушает основы уголовного законодательства, в частности ст. 8 УК РФ, которая предусматривает, что основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления.
Поэтому отметим, что такое широкое толкование использования служебного положения совершенно недопустимо.
Однако не стоит забывать о том, что мошенничество в данном случае совершено особым субъектом. Тот факт, что преступление совершается должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, безусловно, облегчает его совершение и повышает его общественную опасность, поэтому обязательно должен быть учтен при оценке действий виновного. Возможно, это и является основной причиной предложенной Пленумом Верховного Суда РФ квалификации. Исходя из того, что уголовное законодательство Российской Федерации просто не содержит нормы об ответственности за мошенничество, совершенное специальным субъектом преступления, единственным выходом остается квалификация по ч.3 ст.159 УК РФ.
Исходя из вышеизложенного, предложенный Высшей судебной инстанцией Российской Федерации критерий: наличие либо, напротив, отсутствие у лица возможности совершения действий (бездействия) с использованием служебных полномочий или служебного положения, за которые оно получило взятку или предмет коммерческого подкупа, является критерием отграничения получения взятки, предмета коммерческого подкупа от простого мошенничества, ответственность за которое предусматривается ч. 1 ст. 159 УК РФ, хотя и совершенного должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.
Список литературы Некоторые критерии разграничения хищения с использованием служебного положения с составами преступлений, предусмотренных ст. 290 и ч. 5 ст. 204 УК РФ
- О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс].
- Егорова Н.А. «Острые углы» проекта Постановления Пленума Верховного Суда РФ о коррупционных преступлениях // Уголовное право. 2013.№5. С. 64-67.
- Пейсикова Е.В. Доклад на заседании Пленума Верховного Суда РФ о проекте Постановления «о судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (первое чтение) // Уголовное право. 2013. N 5. С. 131-136.
- Яни П.С. Новые вопросы квалификации взяточничества // Законность. 2014. N 8. С. 23-27.
- Апелляционное определение Московского городского суда от 10.08.2016 по делу N 10-11429/2016 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс].
- Приговор Данковского городского суда Липецкой области от 19 июня 2011 по делу №1-41/2012 // РосПравосудие.URL:https://rospravosudie.com/court-dankovskij-gorodskoj-sud-lipeckaya-oblast-s/act-105391849 (дата обращения: 10.10.2017).
- Приговор Московского городского суда от 03.12.11 по делу №-1-28/2011// КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс].