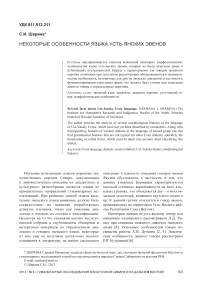Некоторые особенности языка усть-янских эвенов
Автор: Шарина Сардана Ивановна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Язык и пространство прекрасного
Статья в выпуске: 6 (26), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка выявления некоторых морфологических особенностей языка усть-янских эвенов, которые не были отмечены ранее в публикациях исследователей. Наряду с характерными для говоров западного наречия отличиями при детальном рассмотрении обнаруживаются и грамматические особенности, нетипичные для других эвенских диалектов, в частности в функционировании глагольных форм, что должно быть учтено при отнесении данного говора к определенным наречиям.
Эвенский язык, диалекты, западное наречие, усть-янский говор, морфологические особенности
Короткий адрес: https://sciup.org/170175460
IDR: 170175460 | УДК: 811.512.211
Текст научной статьи Некоторые особенности языка усть-янских эвенов
Изучение исчезающих языков коренных малочисленных народов Севера, документация и лингвистическое описание их диалектного и культурного разнообразия является одним из приоритетных направлений гуманитарных исследований. При решении данной задачи касательно эвенского языка внимание должно быть сосредоточено на наименее разработанных аспектах изучения, таких как описание диалектов и говоров, их состава и классификации. Несмотря на то что усилиями многих исследователей собраны и опубликованы обширные и интересные материалы по определенным диалектам и говорам эвенского языка, некоторые из них еще не получили достаточно полного освещения в литературе, не имеют системного описания. Сложность описания говоров эвенов Якутии обусловлена, в частности, и тем, что данные языковые формации характеризуются высокой степенью вариативности на всех языковых уровнях, что объясняется дву – и многоязычием носителей, влиянием якутского языка и пр. К данной группе относится и говор эвенов, проживающих на территории Усть-Янского района Республики Саха (Якутия).
Некоторые данные по усть-янскому говору под названием юкагирского рассматривала Л.Д. Ри-шес при описании западного диалекта эвенского языка [8]. Основным особенностям говора посвящены работы Х.И. Дуткина [2, 4]. Лексические особенности данного говора рассмотрены Р.П. Кузьминой [6].
В статье предпринимается попытка выявления некоторых грамматических особенностей языка усть-янских эвенов, которые не были отмечены ранее в публикациях исследователей, т. к. приобщение новых данных по еще недостаточно изученным диалектам имеет определенную ценность для исчезающего эвенского языка. Источником для работы стали полевые материалы автора, здесь и далее приводятся образцы речи и письменного варианта усть-янского говора.
По данным Ассоциации эвенов Усть-Янского района Республики Саха (Якутия) на 31.12.2012 г., на территории района проживает 567 эвенов. Эвенским языком владеют 39 человек (6,8% из общего числа), в т. ч. 11 человек, проживающих в с. Уянди, 14 – в с. Сайылык, 14 – в пос. Депутатский. Самым младшим носителем языка в пос. Депутатский оказался информант 47 лет. Эвенский язык как предмет преподается в двух школах района: его изучают 20 детей в с. Уянди, 51 – в с. Сайылык.
В ходе выборочного анкетирования, проведенного нами в 2012 г., были получены следующие результаты. Основным языком коммуникативного общения респондентами выбран якутский. Однако большинство респондентов подчеркивает, что языком их общения в дошкольном возрасте был только эвенский язык. Степень владения последним участники оценивают неоднозначно, подчеркивают отсутствие языковой среды, недостаточное знание устного народного творчества и проч. Таким образом, усть-янский говор с социолингвистической точки зрения относится к одному из наиболее неблагополучных говоров эвенского языка. Поэтому документация его материалов имеет большое значение для лингвистической науки.
К основным фонетическим признакам усть-ян-ского говора относятся характерные для всех говоров западного наречия отличия:
-
1) полная спирантность, отсутствие звукоти-па [с] и наличие фарингального согласного [h] во всех позициях в слове: hиhэчин `вечером`, уhи `ремень`, экӈэh `сестра (твоя)`;
-
2) метатеза конечного – с и гласного последнего слога: буhкэ `лед`, эhкэ `рыбья чешуя` (в восточных говорах соответственно бөкэс, экэс);
-
3) наличие переднеязычного [д] после сонорных согласных: чундукан (в восточных говорах – чунрукан) `мяч`, нанда (нанра) `шкура`.
В области морфологии говор характеризуются определенными особенностями.
Наиболее яркая из них – наличие только одной формы личного местоимения 1 л. мн. ч.: мут «мы».
Отсутствуют самостоятельные формы притяжательных местоимений 1 и 2 лица, вместо кото- рых используются личные местоимения, например: Эне, алаке, Бугундя-упэ би амандуву өмэм орми бөн, аике, эмдэкэн чалмив дебдип. `Мама, ура, Земля-бабушка моему отцу одного оленя дала, как хорошо, когда придет (он), оленьи кишки будем есть. ` Тарич горкам дёмкуттиди: «Таралдук аhаткардук өмым hи экӈэh гаракат он бимчи?» – гөникэн улгимичэ. `Потом, долго подумав: «Если одну из тех девушек твоей сестрой сделать, как будет?» – говоря, вопрошал`.
Образование форм множественного числа от форм типа оран, муран сопровождается усечением конечного [н] основы: ора-л `олени`, мура-л `лошади`.
В говоре неупотребительны направительно-местный и направительно-продольный падежи, вместо которых используются послеложные конструкции: Өмнэкэн оралчимӈал нам hолилин нулгуччэл. `Однажды оленеводы вдоль берега моря кочевали`.
Однако в говоре форма направительно-местного падежа (суфф. – кла/-клэ) обнаруживается в оформлении причастий: Чарчакан hоч наптиклайи он некми айдин: «Өгилэ бугла тэгэлкэлкэн мутту яддин» – такан гөнчэ мэргэнди... `Чарчакан, хотя и расстроился, но как сделать лучше: «В верхнем мире живя, что бы у нас делала-то»`, – сказал про себя.
После основ на гласный суффикс направительного падежа – тки встречается в виде – кки, например: Ок-да эдыӈи итты адув иччэ куӈа нивэкэг долин дикэйкэтникэн дэгилгидэкки миркычэ. `Никогда раньше такого не видевший ребёнок, прячясь в зарослях карликовой березы, пополз в строну птиц.` Бугундя-упэ оралби муткидэкки илбэддэн. ` Земля-бабушка оленей в нашу сторону пригоняет`.
Хотя в большинстве западных говоров эвенского языка имена прилагательные не имеют грамматических категорий числа и падежа, в усть-янском говоре, особенно в письменных источниках, отмечаются нормы согласования прилагательных с существительными как в числе, так и в падеже, например: эгдер дэгэмкэрэл `большие птицы`, hол нодал дэгил – аhаткар `очень красивые птицы-де-вушки`, ӈонуму нюритандялбур `длинные свои косы`, мэӈэм чундукэм `золотой шар`
Характерные для говоров западного диалекта метатизированные формы притяжания 2 и 3 л. мн. числа – hын ~ – hнын, – тын ~ тнын в говоре не отмечаются.
Из особенностей употребления возвратных местоимений можно отметить различение местоимений мэни и бэййон для 1, 2 и 3 лиц. Если для 1 и
2 лиц предпочтительно употребление слова мэни, то для 3 лица в говоре характерно употребление возвратного местоимения бэййон: Ноӈан тараптук бэййон «Кирэдей экму» гөникэн гэрбутти оча. `Она с тех пор саму (её) «Сестра Кирэдей» стала называть.`
В говоре фиксируются обе детерминативные формы бэйди и мэнкэн 'сам, сами', имеющие лично-выделительное значение, указывающие на непосредственное участие в произведении действия самого производителя. Примеры: Чарчакан hутчэнни ач эннэ да биhиклэйи онкыкар иhучэ, эгдекэкэн ориди дю далилин кунтэкли мэнкэн hэтыккэтникэн эвири ооча. `Ребенок Чарчакана, несмотря на то что рос без матери, став побольше, возле дома на поляне сам по себе играл, бе-гая.` Бэйди мэргэндикэн тиминарап оннаван һоч уданикан алачча. `Сам же про себя с нетерпеньем ждал завтрашний день.`
В усть-янском говоре отмечена модель числительных второго десятка, содержащая послелог хулэк – `лишний`. Конструкция строится следующим образом: мян хулэкин өмэн `одиннадцать` (досл. десять, его остаток один), мян хулэкин дӫр `двенадцать` (досл. десять, его остаток два); мян хулэкин илан `тринадцать` (досл. десять, его остаток три) и т. д. Этот способ образования числительных второго десятка характерен для диалектов эвенов бассейна Индигирки, ранее у янских эвенов не отмечался.
В говоре фиксируется наличие увеличительных и уменьшительных форм собирательных числительных, которые используются для дополнительной оценки количества считаемых предметов: ил-ничэмэн `всего троих`, илниндевэн `целых трех`, дыгничэмэн `всего четверых`, дыгниндеван `целых четверых` и т. п. Распределительные числительные кроме общепринятых форм илатал `по три, по трое`, дыгэтэл `по четыре, по четверо` представлены также формами илаталди, дигэтэлди.
Формы 2 л. ед. числа глаголов настоящего и будущего времени в эвенском языке имеют личный суффикс - нри, в усть-янском говоре этот личный суффикс имеет вид – нди, например: одинди `ста-новишься`, биhэнди `(ты) есть, являешься`, утӈан-ди `выкрутишь`, эриhӈэнди `позовешь`.
В эвенском языке формы 2 л. мн. числа настоящего и будущего времени глаголов образуются при помощи личного суффикса – с, например: ха-с `вы знаете`, хөр-ди-с `вы уйдете`. В усть-янском говоре согласный [с] во всех позициях заменен согласным [h], и соответственно глагольные формы 2 л. мн. числа настоящего времени выглядят как hа – h вы `знаете`, эмэ – h `вы приходите`.
В области глагола говор представлен следующими особенностями. В усть-янском говоре преобладает выражение прошедшего времени с помощью причастных форм прошедшего времени с суффиксом – ча-/-чэ – и лично-притяжательными суффиксами, при этом формы 3 л. ед. и мн. числа не имеют личных показателей, а формы множественного числа имеют суффикс числа – л, например: эмчэс `ты пришел`, эмчэлсэн `вы пришли`, эмчэ `он пришел`, эмчэл `они пришли`. В речи информантов отмечаются также формы прошедшего времени на – ри: балдарив `я родился`, мудакрив `я закончил`, эмритэн `они приехали`, но в говоре частотность их употребления мала.
Настоящее время 3 л. ед. числа от основ на гласный образует форму бен 'дает' (в восточных диалектах берэн), прошедшее время - бечэ ' дал '.
В формах 2 л. ед. числа повелительного 1 наклонения от основ глаголов с конечным – н согласный основы отпадает, например: гө-ли `ска-жи`, ср. и-ли `входи`. В говоре отмечаются формы 1 л. мн. числа повелительного 1 наклонения с суффиксом – галда/-гэлдэ, например: Гэ, куӈал, hэ-дегэлдэ! `Ну-ка, ребята, давайте танцевать хэде`. Тарпач эчин неккэлдэ. `Тогда вот как сделаем`. Формы повелительного 1 наклонения 2 л. мн. числа имеют два параллельных варианта – – лда/-лдэ и – лилда/-лилдэ, например: гөлдэ и гөлилдэ `ска-жите!`. При этом между двумя данными вариантами какая-либо смысловая разница отсутствует.
В усть-янском говоре, как и во всех говорах западного наречия, специализированная деепричастная форма на – кил отсутствует, и в ее функции употребляется та же форма деепричастия, что и в индикативных отрицательных оборотах: эди бөр `не давай` (вост. и лит. эди бөкил), эди хөррэ `не уходи`, эдилдэ хөррэ `не уходите`, эди гөн `не говори`, эдилдэ гөн `не говорите`.
Формы средневозвратного залога, которые образуются от основ глаголов посредством присоединения суффикса – б-//-п, например, бэридэй `потерять` – бэриптэй `потеряться`, бактай `най-ти` – бакаптай `найтись`, эмэндэй `оставить` – эмэптэй `остаться`, употребляются более активно, нежели аналогичные формы в восточных диалектах, при этом формы средневозвратного залога представлены не только в личных формах глаголов, но и в причастных и деепричастных формах: куӈалду анипчал `посвященные детям`, депчэ ча-мык `поевший тарбаган`, hуhупчав нандыв `стри-женую шкуру`, ирипчэ чалми `сваренные потро-ха`, нучупчэч тэргыhыч `прокопченной замшей`.
Среди форм длительности / многократности действия в говоре отличается особой активностью форма – гра-/-грэ-//-гара-/-гэрэ-//-ӈра-/ӈрэ-: мадай `убить, добыть` – маградай `убивать, добывать`, гөндэй `сказать` – гөӈгрэдэй `говорить (неодно-кратно)`. Примеры: Һутур көчукэн биhэкэн ноли-маду бэбэкэм оридюр ируграчал. `Когда ребенок был маленький, на санях детскую повозку сделав, возили.` Ок эмыннэвутэн як да ач hаграчала. `Ког-да он приедет, никто никогда не знал.`
Для данного говора, в отличие от других говоров западного наречия, характерно весьма частое употребление формы обычного действия на – ват/-вэт: Би бэйди дуктаӈа икэвэттэм. `Я сам что написал, пою (обычно)`. Эрэгэр пэтылнили моста-ли гиркаватми hадын да ӈиӈтын киӈтэкэлдимдэh оваттан. `От постоянного хождения по твердому полу пятки становились твердыми`.
В говоре отмечается функционирование некоторых форм выражения характера протекания действия, не отмеченных ранее в грамматических описаниях эвенского языка. Форма особо интенсивного действия, образуемая при помощи суффикса – нукан-/-нукэн – от достаточно большого количества глаголов, характерна и для других диалектов эвенского языка, например: Эньми төрэмэн долдыча куӈа дюккийи hибынукэнчэ. `Услышав, как зовет мать, ребенок ворвался в дом`.
В усть-янском говоре отмечается частотное употребление одновременного деепричастия с суффиксом – никан/-никэн. В говоре данное деепричастие проявляет тенденцию к неразличению форм числа, выступая в форме единственного числа в статусе неизменяемых деепричастных форм. Причина этого явления до конца не ясна, но можно предположить, что оно может быть обусловлено влиянием якутского языка, например: Аhачкакаял дэтлэн-дялбур нукридюр өмынду умивчал, тарич ӈонуму нюритындялбур нибалаканни hукэлукэмнин hоч аич дилгындюр икэникэн , ӈалдур дявулдуридюр эрэли hэденылчэл`. Девушки, крылья свои сняв, положили в одно место, потом длинные косы свои распустив, очень красивыми голосами стали петь, взявшись за руки, танцевать круговое хэде`.
В говоре употребительна форма разносубъектного одновременного деепричастия с суффиксом – ӈси-, например: Куӈакыкан биӈhиву ами эӈи ӈалални өгилэ төкыhӈырэр. `Когда я был ребенком, сильные руки отца поднимали наверх`. Һояв ормур көсчиникэн, чорав дювур дюлатникан, дөмӈэли нулгэниӈhит. `Много оленей пася, в чуме живя, кочевали мы по тайге`.
В говоре не прослеживается употребление причастия недавнопрошедшего времени с суффиксом – мат/-мэт и причастия давнопрошедшего времени с суффиксом – тла/-тлэ.
Какие-либо особенности наречий как части речи в говоре не усматриваются.
В лексике усть-янский говор обнаруживает те же диалектизмы, что и другие крайне-западные говоры, например: нолима `нарта`, куратли `шап-ка`, кяга `дед` и др.
Итак, из источников материала становится понятно, что усть-янский говор эвенского языка не проявляет существенных отличий от той языковой формации, которая известна в литературе как западное наречие. Однако при более детальном рассмотрении говор обнаруживает некоторые отличия и особенности, что должно быть учтено при отнесении данного говора к той или иной языковой формации. Дальнейшие исследования здесь могут дать новые, более полные и надежные, данные не только в отношении ареала распространения определенных диалектов эвенского языка, но и существующей классификации.
Список литературы Некоторые особенности языка усть-янских эвенов
- Бурыкин А.А. Язык малочисленного народа в его письменной форме (на материале эвенского языка). СПб.: Петербургское Востоковедение, 2004. 384 с.
- Дуткин Х.И. Основные особенности усть-янского говора эвенского языка//Языки народов Севера: грамматика, диалектология. Якутск, 1989. С. 81-88.
- Дуткин Х.И. Аллаиховский говор эвенов Якутии. СПб.: Наука, 1995. 144 с.
- Дуткин Х.И., Белянская М.Х. Тундренный диалект западного наречия эвенского языка. СПб.: Бельведер, 2009. 166 с.
- Кузьмина Р.П. Язык ламунхинских эвенов. Новосибирск: Наука, 2010. 113 с.
- Кузьмина Р.П. Некоторые лексические особенности языка усть-янских эвенов//Языки и фольклор народов Сибири. Электронный научный журнал. 2012. № 2. [Электронный ресурс]: http://www.sivir.ru
- Лебедев В.Д. Язык эвенов Якутии. Л.: Наука, 1978. 208 с.
- Ришес Л.Д. Некоторые данные по западному диалекту эвенского языка//Ученые записки Института языка, литературы и истории Якутского филиала АН СССР. Якутск, 1955. С. 179-203.