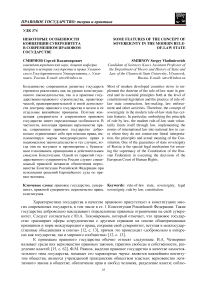Некоторые особенности концепции суверенитета в современном правовом государстве
Автор: Смирнов Сергей Владимирович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 2 (44), 2016 года.
Бесплатный доступ
Большинство современных развитых государств стремятся реализовать как на уровне конституционного законодательства, так и в практике государственно-правового строительства, правотворческой, правоприменительной и иной деятельности доктрину правового государства в целом и ее отдельные важнейшие принципы. Поэтому концепция суверенитета в современном правовом государстве имеет определенные особенности. В частности, воплощая принцип верховенства права, современное правовое государство добровольно ограничивает себя при помощи права, имплементируя нормы международного права в национальное законодательство в тех случаях, когда они не вступают в противоречие с буквальным толкованием, принципами и действительным смыслом Конституции. Одной из гарантий государственного суверенитета России служит специальный правовой механизм обеспечения верховенства Конституции Российской Федерации при исполнении решений Европейского суда по правам человека.
Правовое государство, суверенитет, правовой суверенитет, верховенство права, конституция
Короткий адрес: https://sciup.org/142233811
IDR: 142233811 | УДК: 374
Текст научной статьи Некоторые особенности концепции суверенитета в современном правовом государстве
Характеристика государства в качестве правового присутствует в конституциях многих современных государств, в том числе в ст. 1 Конституции Российской Федерации. Такие государства добровольно накладывают определенные правовые ограничения на свой суверенитет. Следует согласиться с Ю.А. Тихомировым, который отмечает, что правовое государство «расширяет сферы сотрудничества с другими странами на основе общепризнанных принципов и норм международного права, сохраняя свой суверенитет, вступая в межгосударственные объединения и союзы» [12, с. 13], причем это происходит «добровольно в интересах как государства, так и мирового сообщества» [12, с. 13].
К признакам правового государства обычно относят следующие. В.А. Четвернин называет среди них верховенство правовых законов, гарантии свободы и собственности, разделение властей [15, с. 62]. Ф.М. Раянов, выделяя правовое государство в качестве самостоятельного типа государства, называет его характерные черты: является важнейшим институтом общества; является учреждаемой гражданским обществом властью; верховенство легитимного закона в обществе; обеспечение прав и свобод человека, разделение власти; соблю-

дение системы сдержек и противовесов в государственной власти; реальная легитимация государственной власти [8, с. 49-50] и некоторые другие [9, с. 182-192]. Д.Н. Миронов рассматривает в качестве признаков российского правового государства верховенство Конституции Российской Федерации, правовое обеспечение служения государства общему благу, правовые гарантии самостоятельности общества, гарантирование прав и свобод человека [5, с. 153]. Ю.А. Тихомиров среди признаков правового государства называет «…правильное сочетание норм национального и международного права» [12, с. 6], заключающееся в обеспечении государственного суверенитета и признании в определенных пределах приоритета международно-правовых принципов и норм [11, с. 102].
Как отмечает Ф.М. Раянов, основным недостатком отечественной теории правового государства является то, что сущность правового государства она объясняет исключительно фактом связанности государственной власти своими собственными законами [10, с. 15]. На основе сравнительного анализа англо-саксонской и романо-германской моделей государственности делается вывод о принципиальной недостижимости параметров подлинного правового государства в рамках строгого следования последней [10, с. 16-18].
Действительно, следует отметить изначальные различия в интерпретации верховенства права в странах англосаксонской и романо-германской правовых семей. Для романогерманской правовой традиции особенности интерпретации концепции верховенства права были обусловлены ее преимущественной ориентированностью на деятельность парламента по принятию законов и отсутствием признания факта существования какого-либо права, превалирующего над государством. Однако, известно, что совершенно по другому пути происходило развитие доктрины верховенства права в Англии. Необходимо отметить, что сам термин «верховенство права» возник именно в рамках англосаксонской правовой традиции, в которой он интерпретируется в качестве важнейшего инструмента ограничения монархической власти при помощи использования норм общего права, выстраивания системы прецедентов судами. Поэтому в англосаксонской правовой семье именно суду отведена главенствующая роль в обеспечении верховенства права.
После Второй мировой войны начался процесс конвергенции за счет закрепления в конституциях развитых государств естественных прав человека в качестве норм, обладающих высшей юридической силой. В настоящее время удалось выработать консенсус по поводу принципов, которые должны лежать в основе правовой практики, реализующей идею верховенства права. Как отмечает В.И. Зорькин, можно выделить четыре основных блока таких принципов: во-первых, принципы, определяющие положение человека в государстве и обществе; во-вторых, принципы надлежащей правовой процедуры; в третьих, принципы институциональной организации публичной политической власти; в-четвертых, принцип правовой определенности [2, с. 116]. Следует также отметить деятельность Международной неправительственной организации World Justice Project [3], которой разработаны показатели, при помощи которых возможно рассчитать так называемый «индекс верховенства права» для различных стран мира. К ним, в частности, отнесены существующий уровень коррупции, степень ограничения полномочий институтов власти, состояние порядка и уровень безопасности, гарантии защиты основных прав, прозрачность институтов власти, степень соблюдения законов и др. Вслед за В.Д. Зорькиным можно сказать, что в самом общем виде верховенство права означает верховенство над произволом [2, с. 117].
Говоря о верховенстве права как одной из основных составляющих доктрины правового государства, мы неизбежно сталкиваемся с вопросом о соотношении национального и международного права.
Представляется обоснованной точка зрения В.Д. Зорькина, согласно которой «участие России в международных соглашениях и конвенциях означает лишь то, что Россия добровольно возлагает на себя обязательства, перечисленные в этих международных документах» [1] и «оставляет за собой суверенное (выделено мной - С.С.) право окончательных решений в соответствии с Конституцией Российской Федерации в случае спорных моментов и правовых 26
коллизий» [1]. Как известно, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы России являются общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры. В то же время, в ч. 1 ст. 15 Конституции зафиксировано, что она обладает высшей юридической силой в системе правовых актов. Кроме того, В.Д. Зорькин справедливо отмечает, говоря о международной уголовной юстиции, что безусловное признание юрисдикции международных судов почти всегда означает добровольное изъятие в их пользу важных элементов национального правового суверенитета [1], а потому верной правовой позицией, по выражению Л.А. Морозовой, «правовым приоритетом» [6, с. 51], в сфере соотнесения международного и национального права является имплементация международных правоустановлений в тех случаях, когда они не нарушают принципы, дух и букву национальной Конституции. Таким образом «в глобализирующемся мире может и должен сохраняться и утверждаться национальный суверенитет» [1].
Именно такое видение отражено в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г. [7]. Конституционный суд Российской Федерации считает, что участие нашей страны в международном договоре отнюдь не означает отказа от государственного суверенитета. Более того, следует отметить, что ни Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, ни основанные на ней правовые позиции Европейского суда по правам человека никаким образом не могут отменять приоритет Конституции нашей страны. Их практическое воплощение в российской правовой системе возможно лишь при условии признания за Конституцией Российской Федерации высшей юридической силы. Обеспечение принципа верховенства Конституции в процессе исполнения решений Европейского суда по правам человека может быть обеспечено исключительно Конституционным Судом Российской Федерации в рамках двух алгоритмов. Один из них служит для проверки конституционности законодательных норм, в которых Европейским судом по правам человека были обнаружены недостатки, причем, следует отметить, что соответствующий запрос обязан направить суд, пересматривающий дело на основании решения европейской юстиции. В рамках второго алгоритма производится толкование Конституции по запросу Президента или Правительства Российской Федерации, в той ситуации, когда органы власти сочтут конкретное постановление Европейского суда по правам человека в отношении России неисполнимым без нарушения Конституции Российской Федерации. В поправках к федеральному конституционному закону о Конституционном Суде Российской Федерации [14] закреплен соответствующий специальный правовой механизм обеспечения верховенства Конституции при исполнении постановлений Европейского суда по правам человека.
Для объяснения соотношения государственного суверенитета, верховенства конституции и норм международного права в современном правовом государстве может быть использована концепция «правового суверенитета» [4, с. 160–171]. Ю.А. Тихомиров предлагает понимать под правовым суверенитетом государства признание верховенства права в отношениях между государством и обществом и между разными государствами [13, с. 9] и, соответственно, выделить в нем внутренний и внешний аспекты [13, с. 6–7].
Таким образом, современное правовое государство обладает верховенством в пределах собственной территории, независимостью на внешнеполитической арене и добровольно ограничивает себя при помощи права, имплементируя нормы международного права в национальное законодательство в тех случаях, когда они не вступают в противоречие с буквальным толкованием, принципами и действительным смыслом Конституции. Одной из гарантий государственного суверенитета России служит закрепление в федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде Российской Федерации» специального правового механизма обеспечения верховенства Конституции Российской Федерации при исполнении решений Европейского суда по правам человека.
Список литературы Некоторые особенности концепции суверенитета в современном правовом государстве
- Зорькин В.Д. Право силы и сила права. ГКДЖ [Электронный ресурс]. URL: http:/rapsinews.ru/ judicial_analyst/20150528/ 273817674.html (дата обращения: 21.03.2016).
- Зорькин В.Д. Цивилизация права и развитие России: монография. М.: Норма: ИНФРА М, 2015.
- Индекс верховенства права для различных стран мира World Justice Project [Электронный ресурс]. URL: www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index (дата обращения: 21.03.2016).
- Лапаева В.В. Правовая демократия и правовой суверенитет как альтернативы «суверенной демократии» / Современное государство: политико-правовые и экономические исследования: Сб. научных трудов. Серия «Правоведение». Центр социал. науч.-информ. исслед. / отв. ред. Е.В. Алферова. М., 2010. С. 160-171.
- Миронов Д.Н. Правовое государство: происхождение и признаки правового государства / Вестник Бурятского государственного университета. 2015. № 2 (1). С. 49-155.