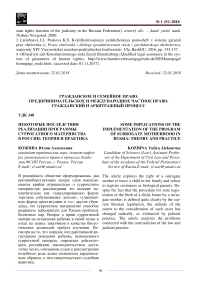Некоторые последствия реализации программы суррогатного материнства в России: теория и практика
Автор: Кожина Юлия Алексеевна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Статья в выпуске: 1 (51), 2018 года.
Бесплатный доступ
В российском обществе сформировались два противоборствующих лагеря: одни высказываются крайне отрицательно о суррогатном материнстве, рассматривая это явление исключительно как «завуалированную форму торговли собственными детьми», «узаконенную форму проституции» и т.п.; другие убеждены, что суррогатное материнство способно разрешить наболевшую для России проблему бездетных пар. Вопрос о праве суррогатной матери на оставление ребенка в своей семье и отказ на запись заказчиков в качестве биологических родителей требует изучения. Несмотря на то, что порядок государственной регистрации рождения ребенка, выношенного суррогатной матерью, определен действующим российским законодательством достаточно четко, отношение судов к рассмотрению подобного рода делам изменилось кардинальным образом, о чем свидетельствует судебная практика.
Вспомогательные репродуктивные технологии, генетическое родство, потенциальные родители, заказчики, отказ, суррогатная мать, ребенок, судебная практика по делам об оспаривании, согласие на запись в качестве родителей, злоупотребление правом
Короткий адрес: https://sciup.org/142232808
IDR: 142232808 | УДК: 340
Текст научной статьи Некоторые последствия реализации программы суррогатного материнства в России: теория и практика
Желание государства любыми путями улучшить рождаемость в России и в то же время сохранить зачастую последнюю надежду у бездетных пар обрести долгожданное счастье отцовства и материнства привело к тому, что зародилось ранее неизвестное российскому обществу явление – «суррогатное материнство». Исследованию юридической природы суррогатного материнства посвящено огромное количество работ. Как показывают результаты проводимых исследований, споры о суррогатном материнстве, возникшие в 90-е годы, не утихают и по настоящее время. Вполне объяснимо, что в силу специфики оказываемых суррогатной матерью услуг по вынашиванию и рождению ребенка потенциальным родителям в российском обществе сформировалось два противоборствующих лагеря: представители одного высказываются крайне отрицательно против подобного явления, рассматривая при этом суррогатное материнство исключительно как «завуалированную форму торговли собственными детьми», «узаконенную форму проституции» и т.п.; сторонники другого убеждены, что суррогатное материнство способно разрешить наболевшую для России проблему бездетных пар, поскольку является «реальным способом осуществления простого природного желания женщины и мужчины, не способных к естественному воспроизводству, иметь своего родного ребенка» [1, с. 53]. Аргументы представителей обеих сторон выглядят вполне убедительно, что еще раз подтверждает многогранность и неоднозначность института суррогатного материнства. В этой связи мы не разделяем уверенности С. Гландина о том, что эпоха перемен для этой сферы общественных отношений прошла [2]. На наш взгляд, «эпоха» только наступает, в том числе и в связи с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 года № 16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей», который «оригинально» разъяснил как целесообразно следует рассматривать дела такого рода.
Не подвергается сомнению тот факт, что несмотря на заключенный по всем правилам гражданского законодательства договор об оказании услуг суррогатного материнства, ни одна из сторон договора не чувствует себя уверенно до момента передачи ребенка заказчикам, т.е. потенциальным родителям. Опасения суррогатной материи объясняются тем, что заказчики могут отказаться забрать ребенка; заказчики, в свою очередь, осознавая, что судьба вынашиваемого ребенка в руках суррогатной матери, опасаются того, что после его рождения она может отказаться дать свое согласие на запись их родителями ребенка и, следовательно, оставить ребенка себе. Вряд ли можно будет когда-то получить подлинно достоверные статистические данные по данному вопросу, мы можем лишь догадывается о количестве несчастных людей, оказывавшихся в подобной ситуации, тем не менее, учитывая судебную практику, следует признать, что чаще истцами по делам об установлении материнства (отцовства) генетической матери (отца), оспаривании материнства суррогатной матери, внесении изменения в запись акта гражданского состояния и возврате ребенка являются заказчики, давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания. Причины подобного неблагоприятного для заказчиков поведения женщины, родившей ребенка, могут быть различные, и до недавних пор исследование судами данных обстоятельств не являлось юридически значимым для дела. Тем не менее, п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) предоставляет суррогатной матери исключительные привилегии в решении вопроса о наделении заказчиков родительскими правами: только ей дозволено решать – дать согласие на запись заказчиков в качестве родителей либо отказать им в этом праве, в отличии от законода-

тельства многих государств, где практикуется коммерческое суррогатное материнство (некоторые штаты Америки, Грузия, Белоруссия, Украина и т.д.).
Судебная практика, сложившаяся в России по делам подобного рода, до недавнего времени придерживалась аналогичной позиции: если суррогатная мама отказывается дать свое согласие на запись заказчиков в качестве родителей, то сделать это без ее согласия невозможно. Таким образом, суды исполняли волю законодателя и с точки зрения действующего законодательства были правы. Несмотря на это, были предприняты попытки обращений с жалобами в Конституционный Суд Российской Федерации граждан, оказывавшихся в подобной ситуации и оспаривающих конституционность п. 4 ст. 51 СК РФ [3]. По их мнению, данное положение противоречит ст.ст. 19, 38 Конституции РФ, поскольку допускает возможность регистрации генетических родителей в книге записи рождений в качестве родителей ребенка, рожденного суррогатной мамой, исключительно при наличии ее согласия на совершение такой записи. Конституционный Суд РФ, признавая суррогатное материнство как метод лечения бесплодия, вместе с тем связан требованиями Конституции, обязывающими его обеспечивать баланс между конституционно защищаемыми ценностями, публичными и частными интересами, соблюдая при этом принципы справедливости, равенства и соразмерности, выступающие конституционным критерием оценки законодательного регулирования не только прав и свобод, закрепленных непосредственно в Конституции, но и прав, приобретаемых на основании закона, который предусмотрел особый порядок государственной регистрации рождения ребенка, выношенного суррогатной матерью. В силу п. 5 ст. 16 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» при государственной регистрации рождения ребенка по заявлению супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом, подтверждающим факт рождения ребенка, должен быть представлен документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий факт получения согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на запись указанных супругов родителями ребенка. Предоставление подобного права означает имеющуюся у нее возможность записать себя матерью ребенка, обусловливая тем самым для суррогатной мамы права и обязанности матери. Данные законоположения, по мнению Конституционного Суда РФ, не нарушают конституционных прав заявителей – генетических родителей, в результате чего жалоба заявителей была отклонена к рассмотрению.
Интересно заметить, что ряд судей Конституционного Суда РФ проголосовали против принятия данного определения. Так, нельзя не согласится с мнением судьи С.Д. Князева, что закрепляя исключительную прерогативу суррогатной матери в разрешении вопроса о наделении генетических родителей материнскими и отцовскими правами, законодатель остается безучастным к интересам лиц, чьи половые клетки использовались для оплодотворения женщины, выносившей плод. Тем самым создается легальная почва для нарушений баланса конституционных ценностей и умаления прав и законных интересов не только генетических родителей, но и ребенка, рожденного в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий. В этой связи неминуемо возникает вопрос о том, насколько избранный законодателем вариант правового регулирования соответствует целевому предназначению института суррогатного материнства [4].
Как известно, суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки, однако, мы не будем отрицать тот факт, что в период беременности между матерью и ребенком появляется особая биологическая и психологическая связь. Учитывая данное обстоятельство, судья Конституционного Суда РФ Г.А. Гаджиев задается вопросом: «Достаточен ли факт генетического родства ребенка для приобретения родительских прав?». Буквально толкуя п. 4 ст. 51 СК РФ напрашивается вывод: «Факт вынашивания и рождения более социально и эмоционально значим, чем генетическое происхождение. Нравственные страдания биологических родителей, лишенных возможности реализовать комплекс родительских прав в отношении своего ребенка считается менее социально значимым» [5]. Нельзя не признать тот факт, что подобные оценочные критерии вообще лишены какого–либо смысла в силу их спе- цифики, поскольку ни один суд никогда не оценит степень страданий генетических родителей и суррогатной мамы.
16 мая 2017 года Пленум Верховного Суда РФ в целях обеспечения единства практики применения судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей, вынес революционное постановление, которым, заняв сторону потенциальных родителей, разъяснил, что отказ суррогатной матери дать согласие на запись родителями ребенка потенциальных родителей не может служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска этих лиц о признании их родителями и передаче ребенка на воспитание. И в этой связи нельзя не вспомнить афоризм Данилы Рудого: «Не так страшен закон, как его толкуют». Притом, что п. 4 ст. 51 СК РФ высказывается однозначно четко, тем не менее, Верховный Суд разъяснил, что суды не должны быть категоричны, рассматривая подобные дела, а должны при этом учитывать условия договора, являются ли истцы генетическими родителями ребенка, по каким причинам суррогатная мать отказывается дать согласие на запись истцов в качестве родителей и т.д. Фактически это означает, что суды, рассматривая дела подобного рода, должны руководствоваться не столько законом, сколько разъяснениями Пленума, что недопустимо. Нельзя в этой связи не упомянуть беспрецедентное в истории российской судебной практики решение суда г. Санкт-Петербурга по резонансному делу суррогатной матери С., отказавшейся дать согласие на запись супругов Ф., являющихся биологическими родителями, в качестве родителей. Суррогатная мать, узнав о том, что вынашивает двойню, потребовала увеличить стоимость оказываемых услуг, на что заказчики Ф. ответили отказом. После рождения детей С. подала заявление в ЗАГС, зарегистрировала их под своим именем и отказалась передавать детей заказчикам. Суррогатная мать во время судебного заседания сказала: «Я вынашивала и родила мальчиков, и по закону я их мать. А биологические родители потеряли не детей, а только мечту о них». Адвокат биологических родителей Ф. заявила, что суррогатная мать злоупотребила своим правом [6], с чем, безусловно, с точки зрения христианства нельзя не согласиться. Однако с точки зрения действующего российского законодательства подобное поведение суррогатной матери вполне законно, поскольку сам закон наделил ее этим правом, чем она и воспользовалась. Несмотря на данный факт, суд обязал суррогатную мать отдать детей их биологическим родителям [7].
Учитывая судебную практику, которая формируется в соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ, назрела необходимость существенным образом откорректировать действующее семейное законодательство и привести его в соответствие со всеми источниками российского права. А пока, создав прецедент в подобного рода делах, суд подтвердил предречение Фрэнсиса Бэкона: «Когда отступают от буквы закона, судья превращается в законодателя».
Список литературы Некоторые последствия реализации программы суррогатного материнства в России: теория и практика
- Трифонова Н.С., Жукова Э.В., Ищенко А.И., Александров Л.С. Суррогатное материнство: исторический обзор. Особенности течения беременности и родов / Российский вестник акушера и гинеколога. 2015. № 2. С. 49-55.
- EDN: UMHXWZ
- Гландин С.В. О вспомогательных репродуктивных технологиях и суррогатном материнстве - de minimis curat lex? / Судья. 2016. № 11. С. 38-43.
- EDN: XORFVR
- Определение Конституционного Суда РФ от 15.05.2012 № 880-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Ч.П. и Ч.Ю. на нарушение их конституционных прав положениями пункта 4 статьи 51 Семейного кодекса Российской Федерации и пункта 5 статьи 16 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» / СПС КонсультантПлюс.
- Мнение судьи Конституционного Суда РФ С.Д. Князева / СПС КонсультантПлюс.
- Мнение судьи Конституционного Суда РФ Г.А. Гаджиева / СПС КонсультантПлюс.
- URL: http:/www.ntv.ru/novosti/1807958/.
- URL: https:/sankt-peterburgsky-spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num= 1&name_op=case&case_id=10059717&case_uid=174C5EAB-7982-4AAE-A8FE-36B0BAD4B4E9&delo_id=5&new=5.